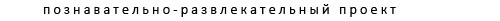бабушкин праздник астафьев краткое содержание для читательского дневника
Краткое содержание Астафьев Бабушкин праздник
Один раз в два или три года семья бабушки собиралась, чтобы отметить ее день рождения. Это происходило летом, в августе после Ильина дня и сенокоса. Бабушка готовилась к празднику, начиная с осени. В семье экономили деньги, делали запасы. Все это копилось целый год.
Накануне предстоящего дня рождения бабушка нервничала, убиралась в доме, на всех ворчала. К ней должны были приехать родственники из четырех поколений, у них были разные фамилии – Фокины, Потылицыны, Шахматовы и Верехтины. В момент таких праздников не обходилось без драк, без песен и плясок, а также без слез.
Гости стали потихоньку собираться, даже приехала родственница с младенцем. Когда столы были накрыты всеми вкусностями, которые были в любой сибирской семье – студнем, разносолами, вареньями, другими блюдами, гости ждали ритуала. А ритуалом было – ввести бабушку в дом под руки, это делали ее сыновья. Потом они усаживали ее на почетное место, начинали говорить красивые речи.
У бабушки был брат Митрий, который считался пьющим. Его не уважали в деревне, а бабушка пригласила его на день рожденье, дала одежду деда. Митрий был рад этому и не выпил ни одной рюмки и не ел.
На празднике все веселились, начали петь песни под гармошку. Бабушка заводила песню стоя, остальные подхватывали. Когда она пела, то казалось, что все дети подняли ее на руки и несут. Митрич, закрываясь рукавом, плакал от такого пения. Бабушка тоже плакала, но песню слезами не портила, они текли по ее щекам.
После пения начались пляски под «Боярыню», гармонист Михаил от души играл на гармошке. Потом пляски снова сменились пением. Все гуляли и веселились. Вдруг, незаметно для всех Митрий взял со стола чей-то стакан и выпил, потом еще несколько. Бабушка утащила его спать в кладовку и замкнула под замок.
Постепенно гости устали и стали стихать. Потом все закончилось, гостей стали отправлять домой, а кто-то остался у бабушки и их начали укладывать спать. Бабушка убирала со стола, вымыла всю посуду, только потом тоже легла отдыхать.
На другой день все начали разъезжаться по домам, прощались. В деревне еще несколько дней были отголоски от бабушкиного дня рождения, многие опохмелялись. Только в доме у бабушки было опустошение. Это был ее последний день рождения, когда все собирались вместе. Через некоторое время ее брат Митрий умер, а оградка стала пополняться родственниками.
Можете использовать этот текст для читательского дневника
Астафьев. Все произведения
Бабушкин праздник. Картинка к рассказу
Сейчас читают
События произведения происходят в степных районах, в которые по призыву партии отправляются активисты с целью разработки целинных земель.
Хорошо сложенный молодой инженер Аларин едет домой. В одном купе вместе с ним едут, неприглядная молодая девушка и мужчина с кавказкой внешностью. Спустя немного времени этот мужчина пристаёт к девушке
В уединённом маленьком городке собираются все чиновники. Начальник уездного города объявляет, что к ним с проверкой секретно едет ревизор. Все начинают обеспокоенно обсуждать эту новость, гадая, что же послужило причиной для проверки
Недаром говорят, что когда ты один – это одиночество, и не просто одиночество, это горькое одиночество, это горе, не радость и печаль.
В книге рассказывается про рыцаря по имени Белокурый Экберт, который жил в маленьком городке под названием Гарц. Ему было сорок лет. Он был женат на Берте. Они сильно любили друг друга
Мадам Жизнь
Познавательно-развлекательный проект
Отзыв о рассказе Астафьева «Бабушкин праздник»

Бабушка, Катерина Петровна, накануне этого праздника всегда волновалась, и ее волнение порой выплескивалось на членов семьи. Однажды она, готовя дом к очередному наплыву гостей, заподозрила дедушку в том, что тот выпивал со своим братом Ксенофонтом. Бабушка устроила дедушке грандиозный скандал. Дедушка был человеком сдержанным и терпеливым, но на этот раз его обида была так сильна, что он молча запряг лошадь и уехал на дальнюю заимку.
Бабушка поначалу не воспринимала всерьез отъезд дедушки, но потом она поняла, что тот не собирается возвращаться домой. Между тем гости должны были уже вот-вот приехать. Тогда бабушка попросила Витю отправиться на заимку и сделать все для того, чтобы дедушка вернулся домой.
Витя выполнил поручение бабушки. Он так построил общение с дедушкой на заимке, что тот сам принял решение вернуться домой. По дороге дедушка лишь только спросил у Вити, сам ли внук решил явиться на заимку или же его послала бабушка. Внук не стал врать и сказал, что сделал это по просьбе бабушки.
По приезду домой дедушка помирился с бабушкой и гостей они уже встречали вместе. Родня у бабушки была разная. Были и трудолюбивые родственники, были и беспутные, но всех их она встречала одинаково приветливо. Дом постепенно наполнялся гостями. Женщины сразу подключались к подготовке праздничного стола, а мужчин бабушка отправила на рыбалку. Всю ночь бабушка и ее помощницы готовили разнообразные угощения, а на следующий день вся семья и многочисленные гости собрались за столом.
По сибирскому обычаю, на столе было выставлено все, что есть в доме. Гости сначала выпили за именинницу, а потом принялись петь песни. Вскоре в избе объявился деревенский гармонист, и начались пляски. Гуляли весело и шумно до поздней ночи. Праздник получился таким веселым, что его отголоски были слышны еще целую неделю из разных концов деревни.
Тот бабушкин праздник запомнился Вите еще и потому, что он был последним, когда родня собиралась в таком многочисленном составе. Время было неумолимо к людям, и родственники бабушки стали один за другим уходить из жизни, обретая вечный покой на деревенском кладбище.
Таково краткое содержание рассказа.
Главная мысль рассказа Астафьева «Бабушкин праздник» заключается в том, что людям важно держаться вместе. Бабушка Вити, Катерина Петровна, была таким особенным человеком, который одним своим существованием способствовал объединению многочисленных родственников. Потомки бабушки и их семьи стремились засвидетельствовать Катерине Петровне свое уважение и периодически собирались в бабушкином доме, чтобы весело и дружно отпраздновать ее день рождения.
Рассказ Астафьева «Бабушкин праздник» учит сдерживать свои негативные эмоции и следить за тем, чтобы обоснованно предъявлять обвинения людям. Катерина Петровна устроила скандал дедушке Вити, решив, что он втайне от нее выпивал с братом. Но ее обвинения были беспочвенны, и дедушка обиделся, уехав из дома на заимку. Пришлось принимать срочные меры и привлекать внука Витю, чтобы вернуть дедушку домой.
В рассказе мне понравился дедушка Вити. Он всегда отличался сдержанностью и немногословием. Дедушка ни одним словом не возразил на бабушкины обвинения, а просто молча покинул дом.
Какие пословицы подходят к рассказу Астафьева «Бабушкин праздник»?
Семья в куче — не страшна и туча.
Праздник придёт — гостей приведёт.
Именины без пирогов не бывают.
Каждому своя обида горька.
Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.
Сказки. Рассказы. Стихи
Бабушкин праздник — краткое содержание рассказа В.П. Астафьева
Один раз в два или три года семья бабушки собиралась, чтобы отметить ее день рождения. Это происходило летом, в августе после Ильина дня и сенокоса. Бабушка готовилась к празднику, начиная с осени. В семье экономили деньги, делали запасы. Все это копилось целый год.
Накануне предстоящего дня рождения бабушка нервничала, убиралась в доме, на всех ворчала. К ней должны были приехать родственники из четырех поколений, у них были разные фамилии – Фокины, Потылицыны, Шахматовы и Верехтины. В момент таких праздников не обходилось без драк, без песен и плясок, а также без слез.
Гости стали потихоньку собираться, даже приехала родственница с младенцем. Когда столы были накрыты всеми вкусностями, которые были в любой сибирской семье – студнем, разносолами, вареньями, другими блюдами, гости ждали ритуала. А ритуалом было – ввести бабушку в дом под руки, это делали ее сыновья. Потом они усаживали ее на почетное место, начинали говорить красивые речи.
У бабушки был брат Митрий, который считался пьющим. Его не уважали в деревне, а бабушка пригласила его на день рожденье, дала одежду деда. Митрий был рад этому и не выпил ни одной рюмки и не ел.
На празднике все веселились, начали петь песни под гармошку. Бабушка заводила песню стоя, остальные подхватывали. Когда она пела, то казалось, что все дети подняли ее на руки и несут. Митрич, закрываясь рукавом, плакал от такого пения. Бабушка тоже плакала, но песню слезами не портила, они текли по ее щекам.
После пения начались пляски под «Боярыню», гармонист Михаил от души играл на гармошке. Потом пляски снова сменились пением. Все гуляли и веселились. Вдруг, незаметно для всех Митрий взял со стола чей-то стакан и выпил, потом еще несколько. Бабушка утащила его спать в кладовку и замкнула под замок.
Постепенно гости устали и стали стихать. Потом все закончилось, гостей стали отправлять домой, а кто-то остался у бабушки и их начали укладывать спать. Бабушка убирала со стола, вымыла всю посуду, только потом тоже легла отдыхать.
На другой день все начали разъезжаться по домам, прощались. В деревне еще несколько дней были отголоски от бабушкиного дня рождения, многие опохмелялись. Только в доме у бабушки было опустошение. Это был ее последний день рождения, когда все собирались вместе. Через некоторое время ее брат Митрий умер, а оградка стала пополняться родственниками.
Бабушкин праздник — краткий пересказ рассказа В.П. Астафьева
Раз в два — три года в доме собиралась вся родня праздновать бабушкин день рождения.
Это происходило после Ильина дня, после окончания сенокоса.
Дед и бабушка заранее всегда готовились.
Прибыло много родственников, даже с младенцем приехала какая — то дальняя родственница.
Мужики собрались во дворе, вспоминают разные деревенские истории.
Жители села состояли в основном из четырех колен родственников, их фамилии Фокины, Шахматовы, Потылицыны и Верехтины.
Столы были накрыты по сибирскому закону богато, всего горой.
За столом пели песни, бабушка даже плакала.
Позже родня отплясывала «барыню», праздник продолжался долго.
И это был последний праздник, потому что позже многие родственники умерли и покоятся все вместе в тишине.
Краткое содержание Астафьев Бабушкин праздник
Один раз в два или три года семья бабушки собиралась, чтобы отметить ее день рождения. Это происходило летом, в августе после Ильина дня и сенокоса. Бабушка готовилась к празднику, начиная с осени. В семье экономили деньги, делали запасы. Все это копилось целый год.
Накануне предстоящего дня рождения бабушка нервничала, убиралась в доме, на всех ворчала. К ней должны были приехать родственники из четырех поколений, у них были разные фамилии – Фокины, Потылицыны, Шахматовы и Верехтины. В момент таких праздников не обходилось без драк, без песен и плясок, а также без слез.
Гости стали потихоньку собираться, даже приехала родственница с младенцем. Когда столы были накрыты всеми вкусностями, которые были в любой сибирской семье – студнем, разносолами, вареньями, другими блюдами, гости ждали ритуала. А ритуалом было – ввести бабушку в дом под руки, это делали ее сыновья. Потом они усаживали ее на почетное место, начинали говорить красивые речи.
У бабушки был брат Митрий, который считался пьющим. Его не уважали в деревне, а бабушка пригласила его на день рожденье, дала одежду деда. Митрий был рад этому и не выпил ни одной рюмки и не ел.
На празднике все веселились, начали петь песни под гармошку. Бабушка заводила песню стоя, остальные подхватывали. Когда она пела, то казалось, что все дети подняли ее на руки и несут. Митрич, закрываясь рукавом, плакал от такого пения. Бабушка тоже плакала, но песню слезами не портила, они текли по ее щекам.
После пения начались пляски под «Боярыню», гармонист Михаил от души играл на гармошке. Потом пляски снова сменились пением. Все гуляли и веселились. Вдруг, незаметно для всех Митрий взял со стола чей-то стакан и выпил, потом еще несколько. Бабушка утащила его спать в кладовку и замкнула под замок.
Постепенно гости устали и стали стихать. Потом все закончилось, гостей стали отправлять домой, а кто-то остался у бабушки и их начали укладывать спать. Бабушка убирала со стола, вымыла всю посуду, только потом тоже легла отдыхать.
На другой день все начали разъезжаться по домам, прощались. В деревне еще несколько дней были отголоски от бабушкиного дня рождения, многие опохмелялись. Только в доме у бабушки было опустошение. Это был ее последний день рождения, когда все собирались вместе. Через некоторое время ее брат Митрий умер, а оградка стала пополняться родственниками.
Бабушкин праздник — Астафьев В.
Рассказ о том, как один раз в два или три года все родственники собирались на день рождения бабушки. Бабушка готовилась к этому целый год, экономила и делала запасы.
Бабушкин праздник читать
Вскоре после Ильина дня, как только заканчивался сенокос, в наш дом собиралась вся многочисленная родня — гостевать, точнее, праздновать день бабушкиного рождения. Случалось это раз в два-три года. Чаще-то накладно. Никто не сговаривал бабушкиных сыновей, дочерей, внуков и других родичей съезжаться в этом именно году, об эту пору, но они сами по какому-то наитию знали, когда им надо быть в родном дому, у матери и отца.
Бабушка и дедушка тоже как-то догадывались, что нынче нагрянут ребята, и заранее начинали готовиться к тому, чтобы принять и устроить уйму людей. Само собой, ребята приезжали не с пустыми руками, но все же главная тяжесть расходов ложилась на бабушку с дедушкой, и в доме нашем загодя, еще с зимы начинался великий пост и всевозможный прижим по части расходов харчей и денег — коли пировать, так и мудровать.
После отела коровы брали под особое наблюдение телку или бычка — на закол. На базайскую механическую мельницу по санной дороге увозили и мололи зерно на крупчатку, с весны копили яйца, сбивали сметану на масло — и все это убиралось в подвал, в кладовку, рассовывалось по каким-то никому, кроме бабушки, неведомым тайникам. Лишь мне она уделяла колотое яичко, снятого молока, кривой, ожелтевший огурец или завалящую постряпушку.
Чем ближе подходил бабушкин праздник, тем напряженней шла жизнь в нашем доме. Бабушка все чаще роняла что-нибудь из рук или проливала и кричала неизвестно кому: «Сдохнуть бы мне сегодня же! Легче бы мне было!» И все же она входила в предпраздничную линию раньше и прочнее, чем дедушка и Кольча-младший. Тех сламывала напряженность, они «закусывали удила», и тогда уж сладить с ними было непросто.
Чаще всего бабушка сама же и доводила мужиков до бунта, взбаламутив и без того неспокойное течение жизни в доме наскоками, подозрениями, излишним подчеркиванием собственных стараний в хлопотах и в труде.
Перед тем праздником, который мне запомнился оттого, что был я уже в памятливых годах, дедушка взорвался в самый неподходящий момент. И довела его до крайности снова бабушка, из-за усталости не почуявшая той черты, за которой наступает предел дедушкиного терпения.
Бобылю Ксенофонту надоедало сидеть одному в старой, наполовину засевшей в земле хибарке, и он вечерком, после дневного труда и забот приходил на нашу завалинку. Сидели два брата, курили табак, передавая друг дружке кисеты. Иной раз просидят так вот весь вечер, единого слова не скажут и разойдутся, друг другом довольные. А иногда курят-курят молча и молча же куда-то улизнут. И не ищи их тогда — не найдешь. Дед явится поздно, выпивший, отяжелевший, тихий. Бабушка кинет ему подушку, и он успокоится, определившись на высоком курятнике в кути.
В тот злосчастный вечер, как обычно, пришел на завалинку Ксенофонт, выполз за ворота дедушка. Сидели дед и Ксенофонт, смолили табак и думали. Бабушку, издерганную, усталую, зудила неприязнь: таких вот двое мужичищев табак переводят, а она, забегавшаяся, крутится, крутится и дел своих никак не переделает. Ругалась во дворе бабушка, пнула Шарика, поймала курицу, усевшуюся спать в жалице, зашвырнула ее на сеновал, хватила об пол пустое ведро, подвернувшееся на пути, и ведро укатилось к воротам, бухнуло в створку.
Дед даже и ухом не повел.
На беду дед с Ксенофонтом с завалинки ушли, как потом выяснилось, выдернуть лодку повыше на берег, потому что начала в Енисее прибывать вода — от летнего жара потекли беляки в горах, и лодку Ксенофонта, страшенного рыболова, могло унести. Бабушке же втемяшилось в голову, что они отправились выпивать, и она закипела пуще прежнего, ждала деда, чтобы обрушиться на него. Надо заметить — бабушка не трогала деда сразу после выпивки.
Никогда деда вдрызг пьяным не видели, и определить, сколько он выпил и в какой пропорции находится, никто не мог. На всякий случай надо было подождать, когда он проспится. Что и делала бабушка, блюдя осторожность и выдержку.
Но тут на нее нашло. Сначала она разорялась в избе, потом во дворе, потом на улице и, наконец, понеслась к тетке Авдотье, чтобы перебить у нее все окна, если дед там обнаружится.
Тетка Авдотья, та самая, что жила от нас наискосок, младшая сестра дедушки — особая статья в нашей родове. Жизнь ее растрепана, как льняной сноп на неисправной мялке. Муж ее Терентий жил с нею набегами. И после каждого набега оставлял тетку Авдотью в тягостях. Родились у нее только девки. По причине нервности тетки Авдотьи, неустойчивого достатка и обихода девки мерли одна за другой, но трое выжили, на беду и радость матери. Девок она растила по-чудному: то милует их, бантики из тряпочек в волосья приделывает, в баню чуть не каждый день таскает, в доме половики настелет, все приберет, выскоблит. То забросит и дом, и девок, не кормит их, не поит, лупцует ухватом, обзывается. Попав в буйную полосу жизни, немытая, пьяная, орала тетка Авдотья матерщинные частушки под нашими окнами, да еще и приплясывала.
Девки подросли, и старшая — Агашка — пригуляла ребеночка. Тетка Авдотья прогнала дочь из дому «с в…ком», а сама побежала в Енисей бросаться, и бросилась, доплыла по-собачьи до сплавной боны, вылезла на нее мокрая, жалкая и выла среди реки протяжно, одиноко и жутко.
После этого тетка Авдотья вернула Агашку домой и стала жить смирно-тихо. И стариться начала быстро, обвисла, ссутулилась, поседела. Дом она содержала теперь обиходно, даже форточку в раме проделала, чтоб вольный дух помогал расти дитенку. Наряжалась тетка Авдотья мыть и белить избы, копать огороды, нянчилась за плату с ребенком учителей и разную всякую работу делала, волоча за собой везде и всюду любимого внука Костеньку. Потихоньку приторговывала тетка Авдотья винцом и самогонкой. С деда и Ксенофонта платы за вино не брала, и не по родственным соображениям, а потому, что они доглядывали ее хозяйство — привозили дров, починяли домишко, ремонтировали печку.
Совсем наладилась жизнь тетки Авдотьи, как вдруг снова объявился Терентий. Он приплыл с севера, откуда-то из-под Гольчихи, в резиновых сапогах, еще невиданных в нашей деревне, с длинными голенищами, в шляпе, при часах, и привез бочонок соленого омуля.
Терентий открыл створку ворот и в качестве «суприза» катнул во двор пузатенький, ловконький такой бочонок, густо затянутый окислившимися в долгом пути обручами, под крышку забитый отборным омулем. Терентий, подбоченясь, победно оглядел деревню — знай наших, поминай своих! Рот его раскрылся, сморщился от самодовольной, блаженненькой улыбки. Зубов во рту Терентия не было, съело их цингой и водкой. Лишь один какой-то обломочек или корешок, может, и вновь просекшийся молочный зуб весело сверкал на дитячьих деснах, знаменуя собой радость обновления жизни, снова и снова наступающего первотворения, возобновления обеспечен- ной, семейной жизни под родной крышей.
Предчувствием счастливой встречи и бесконечной радости переполнено сердце вечного скитальца, еще одного беспечного и беспутного овсянского гробовоза.
Поскольку настил во дворе был внаклон и все хозяйство — дом, заплот, ворота — внаклон, и жизнь тетки Авдотьи внаклон, на солнце, на восход, то бочонок с омулем, постукивая по настилу, вспрыгивая на сучках и выбоинах, резво набирал ход и, не будь закрыта калитка в огород, прокатился бы по грядам, смял бы прясло, своротил бы весь нижний сельский посад, брыкнулся бы с яра в Енисей, и рыба в бочонке, пусть и соленая, пусть в бессознательном состоянии, поплыла бы в обратный путь, к родному устью, где была изловлена, лишена не только жизни, но и свободы, тесными рядками запечатанная в тугой бездушный бочонок.
Тетка Авдотья, хоть и встречь уклону, хоть и в гору, бочонок, торкнувшийся в огородную калитку, чуть было с петель ее не сорвавший, ногой катнула в обратную сторону, к воротам. Где и сила взялась? Видно, бабья неистовость сильнее всяких сил! Перекувыркнула бочонок, что поросенка с тугими боками через подворотню, поставила его на попа, пришлепнула ладонью по сырому торцу, будто поставила печать на замаркированные доски.
После этого тетка Авдотья молча двинулась навстречу лучезарно лыбящемуся мужу, раскинувшему руки для объятий, молча же сорвала шляпу с его головы, кучерявящейся младенческим пушком, шляпу шлепнула оземь и принялась месить ее голыми ногами, втаптывать в пыль, будто гремучую змею. Топтала, топтала, сорвалась на визг. Без слов, без ругани был тот визг. Все в нем спеклось, в этом страшном визге — боль, ненависть, звериная тоска полужены-полувдовы, нужда, одиночество, борьба с девками, перемогание хворей и насмешек деревенских сплетников и блудников, пользующихся услугами мелкой спекулянтки, батрачки, вздорной бабы, позорной, дикой пьянчужки — все-все втаптывала в пыль, в грязь тетка Авдотья.
Натоптавшись до бессилия, навизжавшись до белой слюны, тетка Авдотья молча подняла с дороги шляпу, измызганную, похожую на недосохшую коровью лепеху или гриб-бздех, вялым движением, как бы по обязанности, доводя свою роль до конца, раз-другой хлопнула шляпой по морде мужа, напяливая ее на голову его до ушей, пристукнула кулаком сверху и удалилась во двор.
Весь нижний конец села упивался этой картиной. Задохнувшийся пылью, оглушенный налетом, Терентий долго отплевывался, утирался рукавом, растерянно наблюдая, как Авдотья запирала ворота, как пнула подвернувшегося на пути его любимого пса Мистера, как резко задернула занавески на окнах, даже веревочку порвала у одной занавески, как расшуровала из дому всех, даже девок, выдворила заспавшегося кота, не пощадила и курицу-парунью, сидевшую в сите на куделе, вместе с яйцами хряснула с крыльца и, матерясь, искала еще чего бы сокрушить и выкинуть.
— Во, штурела, курва, во штурела. — трусовато, чтоб народ слышал, а баба, впавшая в неистовство, не слышала, частил однозубым ртом Терентий.
— Как у нашего соседа развеселая беседа! — приплясывая, шествовал к столу дядя Левонтий. — Гуси в гусли, утки в дудки, тараканы в барабаны! Ух, ах! Тарабах!
А Мишка Коршуков, вытаращив глаза, коротко доложил:
— Где блины — тут и мы!
— Левонтий! Мишка! Едрит-твою! А ну, зыграй!
— Дай обопнуться людям! — остановила бабушка наседаю- щих на Левонтия и Мишку Коршукова сынов и, полагая, что раз занесло незваных гостей в дверь, глядишь, вынесет в трубу, налила им сразу по полному стакану, поскольку рюмки и прочая подобная посуда для такого народа — не тара — наперсток.
Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с бабушкой, с дедушкой.
— С ангелом, Катерина Петровна! С праздничком! Со свиданьицем!
— Кушайте, гости, кушайте, дорогие!
Бабушка притронулась губами к рюмочке и отставила ее.
— Гостю — воля, имениннику — почет!
Мишка Коршуков и дядя Левонтий пили удало, согласованно, будто бадоги кололи, кадыки у них громко, натренированно двигались, в горле звонко булькало.
— Хороша совецка власть, да горьковата! — возгласил дядя Левонтий и сплюнул под стол.
Мишка высказался, как всегда, следом за старшим товарищем:
— Нет той птицы, чтоб пила-ела, но не пела! — и поднял с пола гармошку, пробежал по пуговицам проворными пальцами.
Ребятишки столпились в дверях горницы, ждали музыки с замиранием сердца. И вот пошла она, музыкаМишка Коршуков широко развел гармошку и тут же загнул ее немыслимым кренделем. Оттуда, из заплатного этого кренделя, чуть гнусавая, ушибленная, потому как Мишка не раз уже разрывал гармонь пополам, вынеслась мелодия, на что-то похожая, но узнать ее и тонкому уху непросто.
Мишка дал направление:
Раз полоску Маша жала,
За-ла-ты снопы вязала-а-а-а,
Э-эх, мо-ло-да-ая-а-а-а…
И все радостно подхватили:
Э-эх, мо-ло-да-ая-а-а-а…
Сделав начин, Мишка наяривал, подпрыгивал на скамейке, будто на лошади. Ему сунули в руку стакан с водкой, он выждал момент, когда можно отойти на второй план, когда песельники справятся и без него, подыгрывая одной рукой на басах, другой поднес стакан ко рту.
— Ты бы закусил, Мишка! — предлагала бабушка, но гармонист мотал головой; погоди, некогда. Августа поднесла ему кружок огурца на вилке. Он снял его губами, подмигнул Августе, она ему — и они ровно бы о чем-то уговорились. Мишка перекинул пальцы, и пока мужики, не разобравшись, что к чему, пели:
Мо-о-лода-а-ая-а-а-а… —
бабенки тряслись вокруг стола под «Барыню», выплескивались из горницы в простор середней. Гармошка со всхлипом, надрывом и шипом выдавала из дырявых мехов отчаянную плясовую.
Гулянка вошла в самый накал; народ распалялся от пляски, прибавлял шуму, визгу, топоту. Теперь уж всяк по себе и все вместе. За столом остались дедушка, старухи, тетя Люба-скромница и трезвый, все так же пеньком торчащий дядя Митрий, который боялся вынуть руки из-под стола, потому что грязны они, покорябаны, да как бы и не схватили сами собой стакан.
Объявилась тетка Васеня, суровым взглядом сразила она мужа, дескать, затесался, не обошлось без тебя. Дядя Левонтий, на крепком уже взводе, возгласил:
— А вот и жена моя, Васеня, Василиса СеменовнаХар-роший человек! Ну, чЕ ты, чЕ ты уставилась? Судишь меня? А за что судишь? Я ж тут свой! Еще свой-то какойПравда, тетка Катерина? — за этим последовал крепкий поцелуй и объятие такое, что бабушка взмолилась:
— Задавил, ой задавил, нечистый дух! Эко силищи-тоВот бы на работу ее истратить…
— Л-люблю потылицынских! Пуще всякой родни! Из всего села выделяю.
Васеню втащили за стол, усадили рядом с дядей Левонтием к уже разгромленному столу. Она для приличия церемонилась, двинула локтем в бок мужа. Он дурашливо ойкнул, подскочил. Все захохотали. Засмеялась и Васеня.
— Хочешь быть сыта — садись подле хозяйки. Хочешь быть пьяна — трись ближе к хозяину! — советовали Васене. на что она оживленно отозвалась:
— А я у обох.
А бабье плясало и выкрикивало под Мишкину гармонь, которую он рвал лихо, нещадно, и, дойдя в пляске до полного изнеможения, гости валились за стол, обмахивались платками, беседовали разнобойно, всяк о своем.
— Што ж, гости дорогие! Хоть и много выпито, но опричь хлеба святого да вина клятого все приедливо, сталыть, ошарашим еще по единой!
— Да-а, Катерина Петровна, беда учит человека хитрости и разумленью. До голодного года скажи садить резаную картошку — изматерились бы, исплевались.
— И не говори, сват. Темность наша.
— А назем взять? Морговали?
— Я первая диковала: «Овощь с дерьмом ись не буду!»
— Во-от! А нышло: клади назем густо, в анбаре не будет пусто!
— И не зря, сват, не зря самоходы сказывают — добрая земля девять лет назем помнит…
— Тятя. закури городскую.
— Не в коня корм, Вася. Кашляю я с паперес. Ну да одну изведу, пожалуй.
— Я ему шешнадцать, а он — десять! Я шешнадцатьОн десять! — рубил кулаком Кольча-старший.
— На чем сошлися?
— На двенадцати.
— Вот тут и поторгуй! Жизня пошла, так ее!
— Н-на-а, лихо не лежит тихо, либо валится, либо катится, либо по власам рассыпается…
— …И завались сохатый в берлогу! — рассказывал дядя Ваня, давно уже забросивший охоту, потому как прирос к сплавному пикету. — А он, хозяин-то, и всплыл оттуда! Я тресь из левого ствола! Идет! Тр-ресь из правого! Идет!
— Иде-от?
— Идет! Вся пасть в кровище, а он идет. Цап-царап за патронташ — там ни одного патрона! Вывалились, когда сохатого гнал…
— Биллитристика все это! — ехидно заметил грамотей Зырянов. — Со-чи-ни-тельство!
— Вякай больше! ЧЕ ты в охоте понимаешь? Сидел бы с грыжей со своей и не мыкал…
Бабушка вклинилась меж Зыряновым и дядей Ваней — сцепятся за грудки, чего доброго…
— Не пьют, Митрей, двое: кому не подают и у кого денег нету. Но чур надо знать! Норму.
— И только поп за порог — клад искать, — а русский солдат шу-урх к пападье-еэ под одеяло-о-о. — напевал Мишка Коршуков Августе в ухо.
— Руки зачем суешь куда не следует? Убери! Вон она, мама-то… Все зрит!
— Вот рыба таймень, так? — уминал пирог и спрашивал у близсидящих бабенок дядя Левонтий, про которого, смеясь, говорили они, что-де где кисель, тут он и сел, где пирог, тут и лег. — Я когда моряком ходил, спрута жареного ел!
— Каво-о-о?
— Спрута! Чуда такая морская есть — змей не змей: голова одна, хвостов много. Скусная, гада, спасу нет!
— Тьфу, страмина! — плевались бабы. — И как токо Васеня с тобой цалуется?
— Кто про чЕ, а вшивый все про баню! — махнул Левонтий.
— Такого заливалы ишшо не бывало! — смеялись и трясли головами гости.
— И што за девки пошли! Твои-то мокрошшэлки закидали тебя ребятишками, закидали! Распустила ты их, Авдотья, ой распустила!
— Дакыть и мы не анделицами росли, Марея. Нас рано замуж выталкивали. Тем и спасались… Да ну их всех, и девок, и мужиков! Споем лучше, бабы?
Тонкий голос тетки Авдотьи накрыл и, точно пирог, разрезал разговоры:
Люби меня, детка, покуль я на воле,
Покуль я на воле — я твой.
Судьба нас разлучит, я буду жить в неволе,
Тобой завладеет другой…
Тетка Авдотья вкладывала в эту песню свой, особенный смысл.
Родичи, понимая этот смысл, сочувствовали тетке Авдотье, разжалобились, припев хватанули так, что стекла в рамах задребезжали, качнулся табачный дым, и казалось, вот-вот поднимется вверх потолок и рухнет на людей. Пели надрывно, с отчаянностью. Даже дедушка шевелил ртом, хотя никогда никто не слышал, как он поет. Гудел басом вдовый, бездетный Ксенофонт. Остро вонзался в песню голос Августы. На наивысшем дребезге и слезе шел голос тетки Апрони, битой и топтанной мужем своим, который уже упился и спал в сарае. Сыто, но тоже тоскливо вела тетка Мария. С улыбкой и чуть заметным превосходством над всей этой публикой подвывал Зырянов. Ладно вела песню жена Кольчи-младшего Нюра. Она вовремя направляла хор в русло и прихватывала тех, кто норовил откачнуться и вывалиться из песни, как из лодки. Ухом приложившись к гармошке, чтоб хоть самому слышать звук, с подтрясом, словно артист, пел Мишка Коршуков.
Пели все, старые и молодые. Не пела лишь тетя Люба, городской человек, она не знала наших песен. Прижалась она к груди мужа безо всякого стеснения, и по ее нежному, девчоночьему лицу разлилась бледность, в глазах стояли жалость, любовь и сознание счастья оттого, что она попала в такую семью, к таким людям, которые умеют так петь и почитать друг друга.
Тетку Авдотью, захлебнувшуюся рыданиями среди песни, повели отпаивать водой. Однако песня жила и без нее. Тетка Авдотья скоро вернулась с мокрым лицом и, подбирая волосы, снова вошла в хор.
Все было хорошо, но когда накатили слова:
Я — вор! Я — бандит! Я преступник всего мира!
Я — вор! Меня трудно любить… —
дядя Левонтий застучал себя кулачищем в грудь, давая всем понять, что это он и есть вор, и бандит, и преступник всего мира. Еще в молодости, когда плавал дядя Левонтий моряком во флоте, двинул он там кому-то по уху или за борт кого выбросил, точно неизвестно, и за это отсидел год в тюрьме. Сидевших в тюрьме, ссыльных, пересыльных, бродяг и каторжанцев, всякого разного люду с запуганной биографией дополна водилось в нашем селе, но переживал из-за тюрьмы один дядя Левонтий. Да и тетка Васеня добавляла горечи в его раненую душу, обзывая под горячую руку «рестантом».
— Да будет тебе, будет! — увещевала мужа Васеня, залитого слезами с головы до ног. — Ну, мало ли чЕ? Отсидел и отсидел, больше не попадайся…
Дядя Левонтий безутешен. Он катал лохматую голову по столу среди тарелок. Вдруг поднял лицо с рыбьей костью, впившейся в щеку, и у всех разом спросил:
— Что такое жисть?
— Тошно мне! С Левонтием начинается! — всполошилась бабушка и начала убирать со стола вазы и другую посуду поценней.
— Левонтий! Левонтий! — как глухому, кричали со всех сторон. — Уймись! Ты чего это? Компания ведь!
Тетка Васеня повисла на муже. Кости на его лице твердели, скулы и челюсти натянули кожу, зубы скрежетали, будто тракторные гусеницы.
— Нет, я вас спрашиваю — что такое жисть? — повторял дядя Левонтий, стуча кулаком по столу.
— Мы вот тебя вожжами свяжем, под скамейку положим, и ты узнаешь, што тако жисть, — спокойно заявил Ксенофонт.
— Меня-а? Вожжами?
— Левонтий, послушай-ко ты меня! Послушай! — трясла за плечо дядю Левонтия бабушка. — Ты забыл, об чем с тобой учитель разговаривал? Забыл? Ты ить исправился.
— С… я на вашего учителя! Меня могила исправит! Одна могила горькая!
Дядя Левонтий залился слезами пуще прежнего, смахнул с себя, словно муху, тетку Васеню и поволок со стола скатерть. Зазвенели тарелки, чашки, вилки. Женщины и ребятишки сыпанули из избы. Но разойтись дяде Левонтию не дали. Мужики у Потылицыных тоже неробкого десятка и силой не обделены. Они навалились на дядю Левонтия, придавили к стене, и после короткого, бесполезного сопротивления он лежал в передней, под скамейкой, грыз зубами ножку так, что летело щепье, тетка Васеня стояла над мужем и, тыча в пего пальцем, высказывалась:
— Вот! Вот, рестант бесстыжой! Тут твое место! Какая жизня с тобой, фулюганом, пушшай люди посмотрят…
На столе быстро прибрали, поправили скатерть, добыли новую четверть из подполья, и гулянка пошла дальше. О дяде Левонтии забыли. Он уснул, спеленатый вожжами, будто младенец, жуя щепку, застрявшую во рту.
В то время, когда угомоняли дядю Левонтия и все были заняты, взбудоражены, бабушка потихоньку поставила стакан перед дядей Митрием. все так же безучастно и молчаливо сидевшим в сторонке.
— На, выпей, не майся.
Дядя Митрий воровато выплеснул в себя водку и убрал руки под стол.
— Да поешь, поешь…
Но дядя Митрий ничего не ел, а когда бабушка отвлеклась, цапнул чей-то недопитый стакан, затем еще один, еще. Его шатнуло, повело с табуретки. Бабушка подхватила дядю Митрия, тихого, покорного, увела и спрятала в кладовку, под замок. Затем она наведалась на сеновал. Там вразброс спали и набирались сил самые прыткие на выпивку мужики. Когда-то успела оказаться здесь и тетка Авдотья. Она судорожно билась на сене, каталась по нему, порвала на груди кофту. Ей не хватало воздуха, она мучилась. Бабушка потерла ей виски нашатырным спиртом, затащила в холодок, подальше от мужичья, прикрыла половиком и, горестно перекрестив ее и себя, спустилась к гостям.
Гулянка постепенно шла на убыль. Поздней ночью самых стойких мужиков дедушка и бабушка развели по углам да по домам. Затем бабушка обрядилась в фартук, убрала столы, подмела в избе, проверила еще раз, кто как спит, не худо ли кому, и, перекрестившись, облегченно вымолвила: «Ну, слава Те, Господи, отгуляли благополучно, кажись. » Посидев у стола, отдышавшись, она еще раз помолилась, сняла с себя праздничную одежду и легла отдыхать.
Гуляки спали тяжело, с храпом, сгонами и бормотаньем. Иногда кто-нибудь затягивал песню и тут же зажевывал ее сонными губами.
Кто-то вдруг вскакивал и, натыкаясь на стены, бьясь о притолоку, шарил по двери, распахивал ее и, громко бухая половицами, мчался во двор.
И почти до петухов, гнусавя, бродила по деревне гармошка — завелся, разгулялся неугомонный человек — Мишка Коршуков, будоражил спящее село.
Дядю Левонтия, обожаемого человека, я караулил, не спал, не позволял себе спать, щипал себя за ногу. И он ровно бы знал, что я нахожусь на вахте, на утре сиплым голосом позвал:
— Ви-итя-а-а! Ви-итенька-а-а!
Мигом я оказался у скамьи. Слабо постанывая, дядя Левонтий лежал на подушке, подсунутой бабушкой.
— Развяжи меня, брат…
Узлы дядя Левонтии стянул, я долго возился, где зубами, где ногтями, где вилкой растягивал веревку. Дядя Левонтий кряхтел, подавая мне советы. Встал наконец, шатнулся, сел на скамью.
— Я чего-то наделал?
— Не успел. Связали тебя.
— Вот и хорошо. Порядок на корабле. Опохмелиться не найдешь? Башка прямо разваливается…
Я подал дяде Левонтию стакан с водкой, ровно бы ненароком оставленный на подоконнике бабушкой. Дядя Левонтий трудно, с отвращением выпил, утерся рукавом, посидел какое-то время оглушенно и приложил палец ко рту:
— Ш-ша! Я пош-шел. Бабушке Катерине не сказывай…
— Ладно, ладно.
Неуклюже загребая ногами, будто на шатком корабле, стараясь идти так, чтобы ничего не скрипнуло, не звякнуло, удалялся дядя Левонтий по кути, громко ахнулся лбом в набровник дверей, изругался и тут же сам себя окоротил:
— Ш-ша! Вахта спит.
Во дворе, как на грех, проснулся любящий подрыхать и понежиться Шарик, напал на дядю Левонтия.
— Шаря! Шаря! — подал голос дядя Левонтии. — Ш-ша, брат! Тих-ха!
Утром бабушка нашла под скамейкой вожжи, повертела в руках пустой стакан.
— Это кто же его развязал, Левонтия-то?
Я пожал плечами, не знаю, мол.
— Вовремя, вовремя умотал соседушко! Я бы ему задала! Я б его пропесочила.
Мужики хмуро опохмелялись. Бабушка сжалилась, велела позвать дядю Левонтия. Но тот еще до свету, минуя дом, уплыл на известковый завод. На той стороне Енисея его не вдруг достанешь! Дядя Левонтий, когда виноват, всегда так делает. Появится он дома к той поре, когда тетка Васеня остынет и бабушка тоже отойдет, забудется в делах и хлопотах.
Днем начались проводины. Собрались плыть в Базаиху дядя Вася и тетя Люба с Катенькой. Слезы, поцелуи, посошок на дорогу. Убежала на работу Августа. Ушли в своей лодке на шестах к Майскому шиверу Зырянов с теткой Марией. Кольча-старший отправился по тети Талиной родне, к шахматовским; другие приезжие родичи тоже разошлись, кто на кладбище попроведать своих, кто к знакомым и родным.
Но распал нашей гулянки не остывал совсем, еще несколько дней пробивались очаги ее то в одном, то в другом конце села, и отголоски песен слышались в одном, в другом дому.
В нашей избе как-то особенно заметно после праздника сделалось безлюдье, какая-то по-особенному тоскливая, сонная неподвижность охватила дом. Тетка Авдотья, смурная, осунувшаяся лицом, вымыла поды, дед прибрался во дворе и на сеновале, бабушка спрятала в сундук наряды и снова стала жить, как жила, в будничных долах и заботах.
Праздник кончился.
И никто еще не знал, что праздник этот во всеобщем сборе был последний.
В том же году не стало дяди Митрия, он поместился в одной ограде с моей мамой. С того тихого, ничем не приметного лета оградка над Фокинской речкой все пополняется и пополняется. Кроме мамы, двух моих сестренок, дяди Митрия, Ксенофонта-рыбака, покоятся там дедушка, бабушка, тетя Мария, дядя Ваня и его жена, тетя Феня, дочка Кольчи-младшего Лидочка и малый его сынок Володенька.
Старые и малые — все опять вместе, в тишине, в единстве и согласии — «там, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная»…