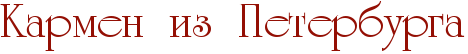Чем влечет блока стихия
LiveInternetLiveInternet
—Ссылки
—Рубрики
—Цитатник
Превращение хлама в оригинальные вещицы Если на вашей кухне скопилось слишком много непри.
Коллекция Alberta Ferretti Limited Edition S/S 2016 Couture Alberta Ferretti предста.
Лучший дизайнер России по мнению звезд Несколько дней назад я наткнулась на одном те.
Картофельные зразы с печёночной начинкой из детства Ингредиенты для зраз.
—Видео
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Статистика
Стихия любви захватила Блока.
Стихия любви захватила Блока. Он, раньше четко разделявший любовь плотскую и любовь духовную, в этот раз смог наконец их соединить|Серафима Чеботарь
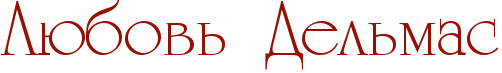

Блок Александр 20 февраля 1916 года
В жизни Александра Блока было много романтизма, но мало любви. Чувство к жене, Любови Дмитриевне Менделеевой, поэт сохранил на всю жизнь, но оно было так густо приправлено философскими идеями, не позволявшими видеть в любимой женщине ничего, кроме воплощения Вечной Женственности, что собственно любви и не получилось: после четырех лет братского сожития и поэтического воспевания Любовь Дмитриевна настолько устала и от поэзии, и от философии, что демонстративно ушла с головой в любовные романы, только уже не с мужем.

Любовь Менделеева и Александр Блок. Фото 1903 года.
Роман Блока с актрисой Натальей Волоховой был страстным, бурным, но коротким; Волохова сама отказалась от своего места рядом с Блоком, поняв, что ей не по силам выдерживать бушевавшее в нем пламя страстей. И последняя, быть может, самая сильная любовь явилась Блоку в образе Кармен в 1913 году…

Наталья Волохова
Одним из самых ярких театральных событий петербургской осенью 1913 года была постановка оперы «Кармен» в театре Музыкальной драмы. Партию Кармен исполняла Любовь Александровна Дельмас, по мужу Андреева.

Она не была красивой – тяжелая, коренастая фигура, грубоватые черты лица; по-настоящему красивы были только ее густые, золотисто-рыжие волосы. Но огонь, горевший внутри, стихийность, способность на сильное чувство – вот что всегда привлекало Блока в женщинах. Он пишет ей анонимные письма, в которых, путаясь в словах, словно неумелый студент, рассказывает ей о своей «проклятой влюбленности», посылает охапки роз, посвящает ей стихи… За две недели Блок написал полтора десятка стихотворений, из которых потом составился цикл «Кармен».

Любовь Александровна Андреева-Дельмас в роли Кармен
Он все еще не решается с нею познакомиться – только звонит ей по телефону, не осмеливаясь заговорить, гуляет под ее окнами – по иронии судьбы, она живет чуть ли не в соседнем с ним доме, на Офицерской улице. Наконец, 27 марта, в день последнего в сезоне представления «Кармен», он передал Дельмас записку с номером телефона и просьбой позвонить. Она позвонила во втором часу ночи; на следующий день они встретились.
Стихия любви захватила Блока. Он, раньше четко разделявший любовь плотскую и любовь духовную, в этот раз смог наконец их соединить. Любовь Дельмас вдохновляла его на великолепные стихотворения, и в то же время была для него реальной, живой женщиной, чье тело сводило его с ума. Влюбленные виделись каждый день, подолгу гуляя по улицам Петербурга. Все, кто видел их вместе, поражались тому, как идеально они дополняли друг друга: полная радостной жизни Дельмас и утонченно-поэтический Блок. На литературном вечере, состоявшемся в годовщину их знакомства, они выступали вместе: Блок читал свои произведения, Дельмас пела романсы, написанные на его стихи. Он не отводил от нее взгляда, полного обожания…
Сама Любовь Александровна не сразу отдалась чувству с такой же страстью, как Блок. Она была замужем, любила мужа, была чужда моде того времени «презирать условности»; кроме того, напор чувств Блока мог испугать кого угодно. Но постепенно и ее подхватил тот вихрь, имя которому – любовь. Ночью 7 июня она позвонила ему: «Я вас никогда не забуду, вас нельзя забыть. Вы – переворот в моей жизни…»
В этот день они прощались: он уезжал в Шахматово, она – в Чернигов. Гуляли по Таврическому саду, искали счастливые «пятерики» в кустах сирени. И потом снова письма и стихи, до новой встречи…
Однако, как это всегда было у Блока, сильное чувство не могло продолжаться долго – по самой своей природе он ценил в любви больше ту боль, что она приносила, чем ее радости. Он считал, что его удел как человека и как поэта – страдания и потери. Дельмас же, оптимистка по природе, не могла с этим согласиться. Постепенно их роман сходил на нет. 1 августа Блок записал в дневнике: «Уже холодею». Еще через месяц он заявил ей о разрыве.
Она пыталась бороться; искала поводы для встреч, посылала письма… Но Блок уже не думает о ней; он снова вернулся к жене, его окружают другие женщины – Елизавета Кузьмина-Караваева, поэтесса Надежда Нолле, барышни-курсистки… Любовь Дельмас продолжает находиться рядом: летом 1915 года она гостит в Шахматове, по вечерам поет романсы и арии из опер. Они снова много разговаривают с Блоком – и снова обнаруживают, что между ними – пропасть непонимания. Вышедшую осенью поэму «Соловьиный сад» Блок преподнес Дельмас с надписью – «Той, кто поет в Соловьином саду». Поэма о человеке, прельстившегося прелестью прекрасного Соловьиного сада, а затем сбежавшего оттуда, стала эпитафией их любви…

Любовь Александровна Дельмас (слева) с сестрой. 1900-ые годы.
Их близкие отношения продолжались до середины 1917 года. Но это была уже только «плоть, без души». Их когда-то страстный роман постепенно перегорел в простую дружбу – она продолжалась до самой смерти Блока, наступившей 7 августа 1921 года. Перед смертью он успел сказать, чтобы ей вернули ее письма. Она сожгла их – теперь вместо нее говорят его стихи.
С5- Какое значение в творчестве А.А.Блока имеет образ стихии?
Александр Александрович Блок- великий русский поэт конца 19- начала 20 века. Его творчество является яркой страницей в истории искусства. Он написал такие известные произведения, как «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «О, я хочу безумно жить», «Россия» и многие другие. Так же ему принадлежат такие циклы стихов, как «Стихи о Прекрасной Даме», «Город», «Снежная маска», «Страшный мир» и так далее.
Но одной из признанных вершин творчества А.А.Блока и русской поэзии в целом считается поэма «Двенадцать». Она была написана в 1918 году и в ней изображена октябрьская революция. Блок говорил после написания своей поэмы: «Сегодня я- гений». Действительно, я считаю что он написал величайшее произведение. Блок был захвачен стихийностью революции и изобразил её в поэме. Образ ветра сопровождает события от начала до конца произведения, и к финалу он перерастает во вьюгу: «Чёрный вечер, белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек»(первые строки произведения), « Впереди с кровавым флагом, и за вьюгой невидим…»(одни из последних строк произведения). Гуляющая стихия, которая превращается в пылящую пургу, является символом революции, хаоса, перемен. «Мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови». В этих строках появляется образ другой стихии- огня. С одной стороны, он символизирует жар, тепло революции- перемены к лучшему, с другой разрушения и горе народа.
В творчестве А.А.Блока важную роль играет образ стихии. Через него автор раскрывает сущность тех или иных событий, описываемых в произведении. Этими неоднозначными символами А.А.Блок так же показывает несколько сторон одного явления и его неопределённость.
С5- Каким образом финал поэмы «Двенадцать» А.А.Блока связан с её основным содержанием?
Поэма «Двенадцать» А.Блока изображает события истории начала 20 века, а именно революцию 1917 года. Автор показывает новый и старый мир, это проявляется в резком противопоставлении(антитезе) на протяжении всей поэмы, например: «Чёрный вечер. Белый снег». А.Блок таким образом подчёркивает неоднозначность этого события, он и поддерживает революцию, и одновременно осуждает её. С одной стороны: Иисус Христос, который «несёт в себе освобождение народа», а с другой: горе и убийства, которые приносят красногвардейцы.
Финал поэмы «Двенадцать» отражает её основное содержание. Он показывает старый мир, который «ковыляет позади, как голодный пёс», и противопоставляет ему новый мир, революционное движение, которое «идёт державным шагом» вслед за Иисусом Христосом. Автор изображает его с помощью антитезы и ярких эпитетов: «С кровавым флагом. В белом венчике из роз».
Но кроме противостояния нового и старого мира с политической и идеологической точки зрения, поэма имеет более широкий философский характер, в ней изображено столкновение разных стихий- народной, природной, и внеземной. Конфликт произведения- столкновение добра и зла, хаоса и спокойствия, мира и войны, света и тьмы в каждом человеке.
«Двенадцать»-число апостолов, учеников Иисуса. Весь путь, которым идут герои поэмы- это путь из бездны к воскресению, от хаоса к гармонии, Иисус Христос наставляет и направляет в верном направлении. И это ярко изображено в финальных строчках произведения. «В белом венчике из роз- Впереди- Исус Христос», эти слова олицетворяют надежду на светлое будущее и, несмотря на убийства со стороны революционеров, возрождение человечности в людях.
Борьба миров- это основное содержание поэмы А.Блока «Двенадцать». Это, прежде всего внутренняя борьба, преодоление человеком в себе всего тёмного и страшного, становление и «истинный» гуманный путь, которое может обеспечить светлое будущее всему человечеству.
Представление о стихии в лирике Блока
Представление о стихии становится для Блока подобием некой поэтический категории, которая органически входит в его мировоззрение и постоянно присутствует в его записях и статьях. Именно в то время Блок сформулировал основополагающую для себя трагическую антиномию стихии и цивилизации (тогда он называл еще цивилизацию культурой). По его мнению, цивилизация-культура находится под ударом угрожающей ей стихий.
Причем носителем стихийного начала в пределах этой антиномии представлялись Блоку не только природные силы, но и народная масса,
Комплекс мыслей и представлений о стихии был непосредственно связан у Блока с тем, что он называл “музыкой”. Поэтическая категория “музыки”, такая же основополагающая для Блока, как и категория “стихии”, складывалась в его сознании уже в раннюю эпоху, в период “тезы”, как называл его Блок, и получила
Если “Прекрасную Даму” Блока можно в какой-то мере рассматривать как поэтическую метафору гармонической, светлой основы мира, взятой преимущественно в статическом разрезе (“Неподвижность”), то “музыкой” он считал ту же основу, увиденную в динамическом аспекте, без прямой ориентации на софианство и теологизм.
Категория “музыки” полигенетична у Блока. Он а восходит к пифагорейцам, к Григорию Нисскому, к Новалису, Вакеиродеру, Гоголю, Шопенгауэру, особенно к трактату Ницше “Рождение трагедии”, которым Блок зачитывался, и к Рихарду Вагнеру, в этом смысле единомышленнику Ницше. “Музыка” для Блока, как и “стихия”, пребывает в природе, в душе народа и в душе человека. Идея “музыки”, как уже говорилось, связана с идеей стихийности и вместе с тем перерастает эту идею (об этом перерастании будет сказано ниже).
Творческая сила, органичность и непосредственность Блока в значительной мере зависели от близости его к “стихии”. В этой близости он находил ту непреднамеренность, от которой зависела убедительность, мощь его поэзии, враждебной любому доктринерству и догматизму. Он действительно имел право заявить о подлинности, неотменимое всего того, а правильнее было бы сказать – только того, что им “было написано в согласии со стихией”. В жизни Блока были моменты, когда не только свое, но и всякое искусство он готов был сводить к стихийному началу.
Блок утверждал тогда, что искусство – “голос стихий и стихийная сила; в этом – его единственное назначение, его смысл и цель, все остальное – надстройка над ним, дело беспокойных рук цивилизации” (1919,VI, 109).
Конечно, нельзя отрицать момента стихийности и в “Стихах о Прекрасной Даме”, но только во втором периоде развития эта стихийность, как уже говорилось, достигла у Блока своего максимального выражения (особенно в “Снежной Маске”) и явилась главным отличительным признаком его творчества того времени. “Литературное событие дня, – писал Вяч. Иванов в начале 1907 года Валерию Брюсову, “Снежная Маска” А. Блока, которая уже набирается (…) Я придаю им (стихам) величайшее значение. По-моему, это апогей приближения нашей лирики к стихии музыки. Блок раскрывается здесь впервые вполне, и притом по-новому, как поэт истинно дионисийских и демонических, глубоко оккультных переживаний.
Звук, ритмика и ассонансы пленительны. Упоительное, хмельное движение, хмель метели, нега Гафиза в снежном кружении. Дивная тоска и дивная певучая сила!”! Неудивительно, что эти строки принадлежат именно Вяч.
Иванову, проповеднику дионисийства в русском символизме, и что они относятся именно к “Снежной Маске”, кульминирующей стихийные устремления Блока эпохи второго тома – “антитезы”.
Но органические духовные начала и потенции, возникавшие в эволюции поэтического мира Блока, не исчезали и на последующих ее этапах, а только трансформировались. Это свойство Блока вполне подтверждается и по отношению к стихийности его творчества. Поэзия Блока в какой-то мере сохраняла свой стихийный характер до конца.
Однако в неограниченнойвласти стихийного начала Блок почувствовал опасность едва ли не в то же самое время, когда эта власть укрепилась в его творчестве, в ту пору, когда он писал свою статью “О лирике”, и даже раньше того (об этом мы можем судить также по тексту “Снежной Маски”). И эту опасность почувствовал не. только он сам, но и его современники. Один из них, критик Н. Н. Русов, в своей статье о “Снежной Маске” писал по этому поводу: “Поэзия и душа А. Блока развеялась, расплылась в вихре метели и кружится, почти без очертаний, без упругости. Она не переживает ни одного сильного чувства, как месть, гордость или обида…
Душа А. Блока как бы плавает по воздушному океану неуловимых видений и смутных колебаний. И не чувствуется возможности центра, который бы собрал вокруг себя в один стальной комок эту душу…”
Понятие стихии само по себе абстрактно, но в приложении к различным сферам жизни может наполняться различным содержанием, проявляя себя как особенное по отношению к всеобщему. Так, например, неорганизованные, анархические восстания крестьян и черносотенные погромы, если они не были инспирированы правительством, биржевой ажиотаж, разгул и прожигание жизни в больших городах или фрондирующее своеволие индивидуалистической богемы – все это стихийные явления, но имеющие различное, отчасти противоположное значение. Или концепции “стихийного миропонимания” в философском и литературном выражении: темная стихия тютчевского хаоса или безумная “мировая воля” Шопенгауэра совсем не то, что творческий поток жизни, живая длительность Бергсона, или народное “роевое начало” в “Войне и мире”, или культ биологической жизненности у Хемингуэя, или принцип самодовлеющего и исключающего другие формы интуитивизма в познании (своего рода гносеологическая стихийность).
Related posts:
Взаимоотношение человека и стихии в поэме А.А.Блока “Двенадцать”
Взаимоотношение человека и стихии в поэме А.А.Блока “Двенадцать”
Эссе по курсу “Русская литература XX в. после 1917 г.”
c тудента 262 группы Кострова А.Ю.
Санкт-Петербургская Государственная Академия Культуры
“Двенадцать” – поэма переворота. Не только и не столько поэма описывающая общую атмосферу, царящую в погибающей, после октябрьского переворота, стране, сколько поэма переворота в погибающей душе самого поэта. Эта поэма – насмешка над “революцией”, Блок в каждом слове, в каждом звуке высмеивает в бессильной злобе кровавый разгул стихии.
Злоба, грустная злоба
Черная злоба, святая злоба.
Сам он не может повлиять каким-либо кардинальным образом на исторический ход событий, поэтому ему только и остается смеяться сквозь боль, отплевываясь кровью. Блок не может (или не хочет) “говорить вполголоса: Предатели! Погибла Россия!”, он отчаянно смеется над несоответствием идеалов поставленных перед “революцией” и окружающей действительностью ее достигнутой. Он зло смеется надо всеми – и над представителями старого мира – попами, буржуями, барынями. всеми, кто довел страну до революционной ситуации, и над представителями, так называемого, “нового” мира ничтожными личностями способными воевать лишь с уличными девками да с тенями в подворотнях.
Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь.
Позабавиться не грех!
Нынче будут грабежи!
Гуляет нынче голытьба!
В зубах цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
“Свобода, свобода, эх, эх, без креста!” – звучит как разгульный, разбойничий клич, не случайно автор отметил, что “на спину б надо бубновый туз!” – такой лоскут из красной или желтой ткани нашивался на спину каторжникам. Эти люди “идут без имени святого. ”
Бессознательный ты право,
Рассуди, подумай здраво –
На ногах не стоит человек.
На всем божьем свете!
Разыгралась чтой-то вьюга,
Не видать совсем друг друга!
В поэме последовательно применен художественный прием, основанный на эффекте контраста. Сразу бросается в глаза, что изображение строится в ней на чередовании мотивов ночной темноты и снежной вьюги. Эта цветовая символика отчетливо ясна по своему смыслу. Она знаменует два жизненных исторических начала: низкое и высокое, лож и правду, прошлое и будущее – все, что противоборствует как на всем свете, так и в каждой человеческой душе. Символика эта социально прояснена, в ней – отражение и художественное обобщение реально исторических явлений.
Что такое снежная вьюга в “Двенадцати”, как не образ “исторической погоды”, образ самого переворота и хаоса им принесенного. Черный вечер и белый снег воплощают в своей контрастности историческую бурю, потрясшую мир. Белое, светлое, снежное торжествует в финале поэмы, где полностью побеждает непроглядную тьму, из которой вышли двенадцать. Здесь автор завуалировано пророчит победу белой, светлой силы над черно-красным хаосом, принесенным той стихией, к которой принадлежали двенадцать.
“Двенадцать” – это полное торжество стихии. Она – главный герой поэмы. Как сама поэма, так и стихия в ней едина и синтетична, хотя внутри нее самой действуют самостоятельные характеры с их собственными индивидуальными чертами.
Двенадцать красногвардейцев пробиваются сквозь лютую вьюгу; они “ко всему готовы” им “ничего не жаль”, они настороженны; их ведет вперед инстинкт, но они еще толком не представляют себе до конца весь смысл своей борьбы, своего “державного шага” в будущее. Они в этой борьбе еще новорожденные, рожденные вместе с “новым” миром, рожденные самим этим “новым” миром.
В геpоях поэмы, беззаветно вышедших на штуpм стаpого миpа, – пожалуй, больше от анаpхической «вольницы» (активно действовавшей в Октябpьские дни), нежели от авангаpда петpогpадского pабочего класса, котоpый под пpедводительством паpтии большевиков обеспечил победу pеволюции.
Ощущение “взлета” революции с громадной силой сказалось в “Двенадцати” в мотивах ночной метели, порывистого, резкого ветра, взвихренного снега. Эти мотивы проходят сквозь всю поэму подобно основной теме в симфонии. При этом ветер, снежная вьюга, пурга – как динамические образы восставшей, разбушевавшейся стихии – приобретают в “Двенадцати” различный смысл применительно к разным персонажам поэмы. Для теней и обломков старого мира злой и веселый (злорадный) ветер – сила враждебная, безжалостно выметающая их из жизни, для двенадцати же, он – их родная стихия, они как порождение этого ветра, они детище хаоса, стремящиеся к разрушению. Этим двенадцати вьюга не страшна, не опасна. Это их родная стихия, они идут сквозь вьюгу революции, которая пылит им в глаза и играет с красным флагом.
Красный флаг появляется в конце поэмы, он – этот символ революции здесь становится символом нового креста России. Россия стоит на перепутье – “позади голодный пес”, а впереди, якобы “светлое будущее”. Есть мнение, что. Христос во главе красногвардейцев означал собой моральное благословение (на аморальные дела, простите за каламбур) революции, ее конечных целей и идеалов. Но в том-то и дело, что не был Он во главе – нигде в поэме об этом не сказано, а сказано – “впереди”. Просто привыкли у нас воспринимать, что впереди, с красным флагом – значит во главе, но здесь другая ситуация, флаг здесь олицетворяет собой новый крест Христа, новый крест России и идет Он не во главе, а Его ведут, ведут на расстрел, на новое распятие.
“Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли ты, что будет завтра? Кто ты? Ты ли это? Или только подобие Его. Но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же, по одному моему мановению, бросятся подгребать к твоему костру угли. Знаешь ты это? Да, ты может быть это знаешь. ” Это Достоевский, “Братья Карамазовы”, диалог Великого Инквизитора с Иисусом Христом.
Читая стихи Александра Блока начала века, его самого можно было бы назвать “революционером” – стихии у него достаточно смелые, “народнические”, но Блок был русским человеком и как всякий русский любил людей, и как русский поэт – любил всех людей. Да, наверняка ему не нравились некоторые представители русского народа, но в общем он любил всех, что можно увидеть из его стихов: он может ругать, высмеивать какой-нибудь чисто русский поступок или характер, а потом в конце написать:
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.
Это последние строчки из стихотворения “Грешить бесстыдно, непробудно. ”
Он любил всех, он любил всю Россию, и тем больнее переживал ее политический, экономический и духовный кризис. Блок проживал все события происходившие в России вместе с ней. Он вместе с Россией с его Русью страдал, замерзал, обливался кровью, умирал от голода. Не буквально, конечно. Александр Блок, в своей поэме чувствует настроение и переживание каждого персонажа, он с точностью передает эмоции каждого встречающегося в строчках “Двенадцати” лица, с горечью высмеивая и показывая всю ничтожность “высоких целей” революции, любых ее партий и движений. Автор в поэме показывает насколько далеки “высокие” идеи революции от земной жизни:
От здания к зданию
“Вся власть Учредительному Собранию!”
Старушка убивается – плачет,
Никак не поймет, чтó значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий – раздет, разут.
Скажите, мог ли поэт обращаясь к Руси как к родной женщине
О, Русь моя! Жена моя!
Нам ясен долгий путь!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь!
и этими словами благословлять на убийство Родины, России?
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые –
Как слезы первые любви!
Еще в 1908 году, Александр Блок в стихотворении “Россия” пророчествует о том, о чем будет писать через десять лет в “Двенадцати”, обращаясь к России:
Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу.
Какому хочешь чародею
Отдай разбойничью красу!
Тебя заманит и обманет, –
Не пропадешь не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты.
И дальше он пишет о том, что чтобы с Россией не случилось, какой бы супостат не пришел на Русь, все равно она не погибнет, поднимется, отряхнется и станет еще краше.
Ну что ж? Одной заботой боле –
Одной слезой река шумней,
А ты все та же – лес да поле,
Да плат узорный до бровей.
Эти “хозяева жизни” до того трусят, что начинают стрельбу еще не видя противника, стреляют по теням, подбадривая себя грозными выкриками в темноту:
Кто там машет красным флагом?
Приглядись-ка, эка тьма!
Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?
Все равно тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
Эй, товарищ, будет худо,
Как всегда, после стихийного бедствия остаются кучи мусора, груды обломков, раненые и погибшие. Так и после этой революции осталось много жертв как из представителей “старого” мира, так и из представителей “нового” мира многие из которых по известной пословице: “За что боролись – на то и напоролись”. Ну а так называемый “мусор”, после этой революции, если воспринимать ее как стихийное бедствие, до сих пор приходится разгребать уже нам – третьему или четвертому поколению после “Двенадцати”.
ГореловА. Поэма Александра Блока “Двенадцать”// ГореловА Избранное. – Л.: 1988.– с. 3 – 136.
ЕсауловИ Мистика в поэме “Двенадцать” АБлока// Литература в школе. – 1998. №5. с. 47-53.
ЖмуринскийВ.М. Поэзия Александра Блока. Преодолевшие символизм. – М.: 1998
Иванова Е. Загадочный финал “Двенадцати”. К 70-летию со дня смерти Александра Блока// Москва. – 1991. – №8. с. 191 – 196.
Вьюжная тайна “Двенадцати”// Литература в школе. – 1996.– №6. с. 49 –52.
Брокгауз и Ефрон: Биографии. Россия./ Электронный энциклопедический словарь. – ElectroTECH Multimedia, 1997, Студия КОЛИБРИ, 1997.