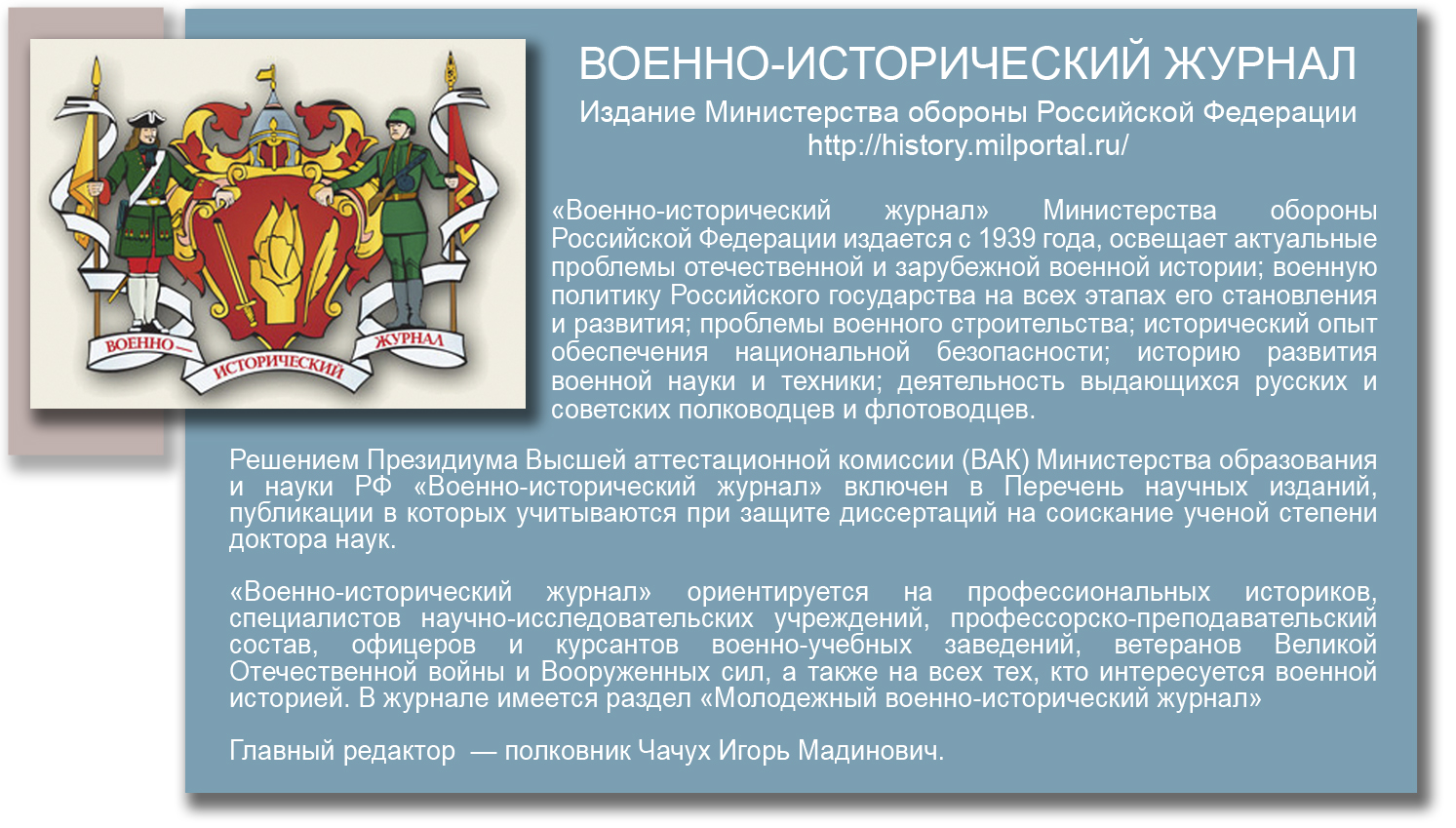Чем занимались органы контрразведки в годы войны
Чем занимались органы военной контрразведки в годы Отечественной войны?
Обсуждение вопроса:
С первых дней войны наиболее важной задачей для органов госбезопасности прифронтовых областей стало противодействие разведывательно-подрывной деятельности вражеских спецслужб.
В числе задач, которые возлагались на истребительные батальоны, были: розыск заброшенных вражеских агентов и диверсантов, охрана наиболее важных объектов промышленности и транспорта и т. п. Тыл был надёжно защищён.
Органы военной контрразведки в первый период войны главное внимание уделяли борьбе с паникёрами и дезертирами, затем выявляли агентов германских спецслужб, обеспечивали скрытность подготовки частей Советской армии к наступлениям.
С апреля 1943 г. основная задача по обеспечению высокой боеготовности частей Советской армии была возложена на самостоятельное Главное управление контрразведки СМЕРШ (Смерть шпионам!). После захвата вражеских агентов, их перевербовки сотрудники управления проводили радиоигры в целях дезинформации противника, выявления новых агентов.
Оперативные группы по линии органов госбезопасности, военной разведки забрасывались в тыл противника. Они осуществляли разведывательные операции в тылу врага, противостояли разведывательным и контрразведывательным органам противника, занимались диверсиями, а при необходимости вели боевые действия.
В тылу гитлеровских оккупантов, в ряде городов (Киев, Одесса, Николаев и т. д.) создавались нелегальные резидентуры для проведения разведывательно-диверсионных операций.
Перед территориальными органами НКВД—НКГБ стояли задачи обеспечения спокойного развития тыла страны от любых попыток дезорганизации действиями германских спецслужб.
Предотвращение попыток сформировать националистические повстанческие отряды.
В территориальных органах особое внимание уделялось выявлению причин невыполнения оборонными предприятиями военных заказов. Информация о нарушениях технологии производства военной продукции постоянно направлялась в контролирующие органы для предотвращения аварий и срыва оборонных заказов.
Контрразведка в годы войны
СОВЕТСКИЕ ОРГАНЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ВЫИГРАЛИ ПОЕДИНОК СО СПЕЦСЛУЖБАМИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
К сожалению, наши спецслужбы, как и Вооруженные Силы, оказались недостаточно подготовленными к ожидаемой войне с фашистской Германией.
ИНИЦИАТИВА НА СТОРОНЕ ПРОТИВНИКА
В первой военной директиве контрразведывательного Управления НКО от 22 июня 1941 г. фашистская Германия не указывалась как главный противник, не ставилась задача выявления ее агентуры, основное внимание уделялось выявлению антисоветских элементов в Красной Армии. Лишь на пятый день войны(!) до сведения всего оперативного и руководящего состава контрразведки была доведена директива от 27 июня 1941 г., представлявшая из себя разработанную инструкцию на основе заранее подготовленного мобилизационного документа.
Выполняя директиву по заброске агентуры за линию фронта, советская контрразведка теряла в первое время немало своих людей. Тем же, кому удавалось закрепиться и начать сбор развединформации, передавать ее по назначению практически было некому из-за слабой радиотехнической оснащенности агентуры. Радиостанций не хватало, а на пересылку сведений через линию фронта, которая к тому же стремительно продвигалась на восток, уходило столько времени, что информация практически обесценивалась. А если кому-то из агентов и удавалось возвратиться на свою территорию, то из-за того, что способы связи в условиях войны были не отработаны, они, как правило, попадали в КПЗ особых отделов для выяснения личности. Там зачастую происходила их расшифровка, и впоследствии невозможно было использовать «засвеченных» в оперативной работе.
Таким образом, стратегическая инициатива в начале войны была на стороне противника. К тому же во время наступления в его руки попадало много секретных документов, из которых иногда даже выявлялась наша агентура, оставленная на оккупированной территории, а также бланков удостоверений и печатей.
Когда же фашистское командование и его разведывательные органы начали забрасывать в тыл нашей страны «своих людей», Совнарком СССР принял специальное Постановление «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами в прифронтовой полосе». В учреждениях и на предприятиях, имевших оборонное значение, устанавливался строгий режим секретности, осуществлялась систематическая проверка сохранности секретов, принимались меры к устранению выявленных недостатков.
Высокая активность немецко-фашистской разведки, изощренность форм и методов ее подрывной деятельности потребовали от советской контрразведки огромного напряжения сил. В зоне боевых действий и тылах фронтов начали действовать специальные подразделения, осуществлявшие активный розыск шпионов и диверсантов. Важное место в их розыске стала занимать деятельность заградительных служб, выявлявших на линии фронта и в прифронтовой полосе пункты, где возможны были переправы агентов, и места, где возможна переброска их на нашу сторону. В непосредственной близости от этих мест, а также на выявленных и наиболее вероятных маршрутах движения вражеских агентов от линии фронта в наш тыл выставлялись засады и подвижные посты. Подразделения заградительных служб широко использовались и при прочесывании местности.
В связи с активными попытками спецслужб противника подорвать боеспособность Вооруженных Сил ЦК ВКП(б), Совнарком СССР и Государственный комитет обороны обязали органы контрразведки принять необходимые меры к созданию на фронте условий, исключающих возможность безнаказанного перехода вражеских агентов через линию фронта, сделать ее непроницаемой для шпионов и диверсантов, оберегать планы военного командования, вести решительную борьбу с трусами, паникерами и распространителями провокационных слухов, обеспечивать охрану шифров и эвакуацию архивных документов. Одной из практических задач контрразведки являлось создание оперативных групп и резидентур для организации разведывательной и диверсионной работы в тылу противника. Агентура НКГБ нацеливалась на проникновение в расположение немецких войск, на участие в партизанском движении и на подпольную работу.
Несмотря на то что органы госбезопасности к началу войны еще не оправились от «ежовских чисток» и не успели даже завершить реорганизацию, соответствующую условиям военного времени, контрразведка все же помогла советскому командованию в укреплении боеготовности частей и соединений, а также в пресечении действий вражеской агентуры. Например, в ходе битвы под Москвой она обезвредила свыше трехсот агентов и более пятидесяти разведывательно-диверсионных групп противника, тем самым способствуя провалу немецкой операции «Тайфун».
Всего на Западном фронте в 1941 г. военные контрразведчики и войска НКВД по охране тыла задержали и разоблачили свыше тысячи шпионов и диверсантов. Попытки фашистской разведки внести дезорганизацию в управление советскими войсками на центральном направлении, нарушить работу фронтовых и прифронтовых коммуникаций потерпели крах.
К началу 1942 г. органы госбезопасности, ослабленные в результате массовых репрессий в предвоенные годы, в короткий срок сумели пополнить свои ряды и приложить все силы для беспощадной борьбы со спецслужбами фашистской Германии по всем направлениям контрразведывательной деятельности.
К концу 1942 г. контрразведка в основном преодолела трудности, вызванные слабой подготовленностью к войне, выработала к этому времени систему собственных оперативных, предупредительных мер борьбы со шпионской, диверсионной и иной подрывной деятельностью противника. Врагу так и не удалось добыть информацию о замыслах Ставки Верховного главнокомандования по подготовке крупных наступательных операций советских войск.
В том же 1942 г. советская контрразведка впервые получила от арестованных немецких офицеров сведения о том, что фашисты намерены подготовить агентуру для заброски в советский тыл с целью бактериологической диверсии. В специальных лабораториях и институтах, по показаниям арестованных, якобы велись в Германии и на оккупированной территории одной из европейских стран разработки по выращиванию бактерий чумы, холеры и брюшного тифа. Ампулами с ними планировалось снабдить гитлеровских агентов для заражения питьевых источников в пунктах наибольшего скопления частей Красной Армии и в крупных промышленных зонах Советского Союза.
Следует заметить, что контрразведке пришлось вести весьма напряженную работу по розыску вражеской агентуры согласно ориентировке Второго управления НКГБ СССР, в которой пофамильно указывался список лиц, переброшенных или подготовленных Германией к переброске в советский тыл. На розыск их был мобилизован весь агентурно-осведомительный аппарат территориальных органов, проводились массовые проверки подозрительных лиц, облавы и обыски.
Чем сложнее для Германии становилась обстановка на фронте, тем активнее делалась ею ставка на средства тайной войны, на военную разведку «абвер» и на разведывательно-диверсионный орган РСХА «Цеппелин», в задачу которых входило разложение советского тыла, проведение диверсий и актов террора.
После сокрушительного поражения немцев под Москвой абвер и «Цеппелин» активизировали агентурную деятельность во всех городах нашей страны. Чтобы сбить активность германских спецслужб, ввести их в заблуждение и выявить враждебные замыслы гитлеровского командования, советская контрразведка решила провести известные крупномасштабные операции под названиями «Монастырь» и «Березина».
При проведении этих мероприятий опергруппа обнаружила в Гурьевской области, в местечке Саракаска, «свежую» стоянку людей: около колодца валялись банки из-под консервов, окурки и огрызок немецкого карандаша. Прочесывание местности было продолжено. В нескольких километрах от первой стоянки при подходе к полуразрушенному дому опергруппа наткнулась в сумерках на неизвестных лиц, которые обстреляли поисковиков из пулеметов и автоматов и, пользуясь темнотой, скрылись в неизвестном направлении.
После первого боевого столкновения было вызвано из г. Гурьева подкрепление. Поиски лазутчиков были продолжены, и 15 мая на заброшенной ферме колхоза имени С.М. Кирова обнаружили двух диверсантов, назвавшихся Садыком и Эвальдом. Они признались, что почувствовали безнадежность предстоящих действий и потому решили сдаться. На предварительном допросе задержанные дали следующие показания. Группа, от которой они отстали умышленно, состояла из 14 человек, и руководил ею обер-лейтенант германской армии Агаев. Он по собственной инициативе отобрал «чертову дюжину» хорошо изученных им крепких русских пленных и предложил немцам создать «национальный легион». Фашисты, убедившись в надежности подобранных Агаевым людей, склонили их к заброске в советский тыл. В процессе подготовки в специальной школе в Люккенвальде перед ними ставилась задача по ведению разведывательно-подрывной работы на территории Казахстана, в прилегающих к Каспийскому морю областях России, а также в Туркменской и Азербайджанской ССР.
В числе немецких офицеров, являвшихся их инструкторами-переводчиками, были Ярослав Струминский и некий Граев. После окончания школы «агаевцев» снабдили «липовыми» паспортами, набором различных фиктивных документов, бланков с печатями и штампами советских воинских частей и соединений Южно-Уральского и Среднеазиатского военных округов, деньгами, портативным типографским станком и двумя радиостанциями с запасными средствами питания. Лазутчиков вооружили советскими автоматами, пистолетами, боеприпасами к ним, гранатами, подрывными и зажигательными средствами. Все это было заложено в схроны на месте приземления, которые в дальнейшем предназначались для других диверсионных групп. О сроках и местах выброски этих групп задержанным не было известно.
В процессе дальнейшей зачистки местности были задержаны в Байганинском районе еще пять фашистских прихвостней, остальные семеро, по показаниям арестованных, ушли в район нефтекачки. Там их и встретили астраханские и гурьевские контрразведчики. На предложение сдаться диверсанты ответили сильным пулеметным огнем. Завязалась ожесточенная перестрелка, в ходе которой были убиты обер-лейтенант Агаев и еще пять человек из его группы. Оставшийся в живых радист Мухамадиев впоследствии (после допросов и соответствующей идеологической обработки) использовался для оперативной игры с Берлинским разведывательным центром в целях дезинформации германского командования.
Впоследствии нашли свое подтверждение и сведения первых задержанных на ферме колхоза имени Кирова Садыка и Эвальда: фашисты действительно забросили в район урочища Саракаска еще трех лазутчиков с чисто шпионскими целями. Они должны были проникнуть на Южный и Средний Урал и собирать информацию о расположении военных объектов, особо режимных заводов, видах выпускаемой на них продукции и отслеживать отгрузку ее в районы боевых действий советских войск. Однако все трое были захвачены органами госбезопасности на месте приземления.
После такого провала руководители «Цеппелина», пытаясь поправить свое положение, в 1944 г. приступили к подготовке новой крупной операции под названием «Римская цифра II». Через некоторое время на территорию Калмыкии был заброшен большой диверсионный отряд. В зафиксированный чекистами район заброски была оперативно направлена группа местных контрразведчиков. Они уничтожили большую часть диверсантов, а оставшихся в живых взяли в плен.
Только в 1943 г. из 19 диверсионных групп, заброшенных «Цеппелином» в советский тыл, пятнадцать были ликвидированы раньше, чем приступили к выполнению заданий. После такого провала рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер вынужден был признать, что главную задачу по проведению диверсионно-подрывной работы в советском тылу «Цеппелин» не выполнил.
За всю войну немецким спецслужбам практически не удалось совершить ни одной серьезной диверсии в советском тылу, наша контрразведка надлежащим образом организовала выявление и разоблачение забрасываемой фашистской агентуры. В результате оперативно-розыскных мер только территориальная контрразведка задержала 1854 агента-парашютиста, треть из них была с радиостанциями.
Большую работу провела контрразведка страны и по заброске в тыл противника советских оперативных групп, по проникновению в фашистские спецслужбы и их разведывательно-диверсионные школы, по внедрению наших людей в их агентурную сеть под видом изменников Родины, бывших осужденных по различным статьям за уголовные преступления и антисоветскую деятельность. Так агент «Гришин», переброшенный за линию фронта, был, естественно, задержан немцами, завербован ими и после обучения в разведшколе возвращен в СССР с их заданием. «Выполнив» его, он снова вернулся к немцам. На этот раз руководство фашистской разведшколы рекомендовало его на штабную работу в серьезном разведоргане противника. Прослужив там несколько месяцев и собрав установочные данные на 101 вражеского разведчика с их фотокарточками, «Гришин» доставил эти ценные материалы в советскую контрразведку.
Забрасываемые за линию фронта наши люди и перевербованные немцы выполняли конкретное задание в ближайшем тылу противника и возвращались в СССР с интересующими советское командование сведениями. Но чаще всего они засылались на длительный период: для выполнения наиболее важных операций по вербовке сотрудников вражеских спецслужб; по склонению обучавшихся в спецшколах курсантов к явке с повинной в случае их переброски в СССР; к установлению лояльно настроенных к Советской власти немецких офицеров и лиц, связанных с немецкими контрразведывательными органами; к выявлению предателей, карателей и гитлеровских пособников, а также к добыванию секретной информации о готовящихся крупных операциях противника на театре военных действий и о планируемых карательных действиях против партизанских отрядов.
В борьбе с фашистскими разведорганами немаловажную роль сыграли мероприятия контрразведки по дезинформации противника путем доведения до него тщательно подготовленных ложных данных о дислокации и количестве советских войск на том или ином участке боевых действий и о планах военного командования. Наиболее эффективно такие мероприятия осуществлялись с использованием радиосредств, то есть путем ведения радиоигр с противником из глубокого тыла. Для передачи дезинформации использовались, как правило, захваченные нашей контрразведкой агенты вражеских спецслужб со своими рациями. После обработки и вербовки они начинали работать под диктовку советских органов безопасности. В результате только одной радиоигры «Подрывники» удалось выманить и арестовать при явке на обусловленное место группу агентов германской разведки в составе семи человек. Потом по их ложному вызову немцы сбросили в помощь им еще пять агентов, один миномет, 8 пулеметов, 37 винтовок и пистолетов, 800 кг взрывчатых веществ, 90 гранат, ящик противопехотных мин, две коротковолновых радиостанции, компасы, ракетницы, фиктивные документы и большую сумму советских денег. Сумев привлечь радистов на свою сторону, контрразведка продолжала оперативную игру с противником, вводя в заблуждение и фашистское командование, и его разведывательные службы.
Все радиоигры (их тексты утверждались Генштабом и Ставкой Верховного командования) по целям и используемым силам и средствам являлись крупными чекистскими операциями, в процессе которых решались задачи стратегического и тактического характера. Они открывали советской контрразведке широкие возможности для осуществления оперативных комбинаций по перехвату каналов и линий связи с гитлеровскими спецслужбами, выявлению и ликвидации их агентуры, действовавшей в тылу СССР и в прифронтовой полосе. В процессе ведения радиоигр выяснялись планы и практические действия вражеской разведки, замыслы немецкого командования. В отдельные периоды войны советской контрразведкой и «Смершем» велось одновременно до семидесяти радиоигр из глубокого тыла и вблизи фронта.
Сложную и не менее напряженную работу вели наши контрразведчики на освобожденной от фашистских захватчиков советской территории. Они помогали восстанавливать на местах Советскую власть, очищать города и села от бывших изменников Родины, карателей, немецких пособников и других лиц, сотрудничавших с оккупантами. Кроме того, они вели борьбу с националистическими бандами в западных областях Украины, Белоруссии и в прибалтийских республиках.
Огромную, сложную работу проделала советская контрразведка и по фильтрации военнослужащих, прорывавшихся из окружения или бежавших из фашистского плена. Эта кропотливая, рассчитанная в основном на профессионализм и интуицию военных, а иногда и «гражданских» контрразведчиков работа стала нарастать после победы наших войск под Сталинградом и с началом широкомасштабного наступления по всем фронтам. В результате успешных наступательных операций из фашистских концентрационных и трудовых лагерей на свободу вышли сотни тысяч советских граждан. К концу 1945 г. через пункты фильтрации прошло более 5 млн. человек. Под различными прикрытиями и предлогами американские, английские и французские спецслужбы осуществляли вербовочную работу среди советских репатриантов перед их отправкой в СССР. А малоизвестное «Бюро партизанских отрядов Франции» снабжало бывших карателей, пособников, служивших в немецкой армии, и изменников Родины документами, удостоверяющими их службу в партизанских отрядах или борьбу с немецкими захватчиками. Все это значительно осложняло работу органов «Смерш» и заграничных резидентур советской разведки, но органы госбезопасности справились и с этой задачей.
Говоря о вкладе советской контрразведки в разгром немецко-фашистских войск, бывший начальник отдела «абвер-3» генерал-лейтенант Бентевеньи на допросе 28 мая 1945 г. показал: «Исходя из опыта войны, мы считали советскую контрразведку чрезвычайно сильным и опасным врагом: По данным, которыми располагал абвер, почти ни один заброшенный в тыл Красной Армии немецкий агент не избежал контроля советских органов, и в основной массе немецкая агентура была русскими арестована, а если возвращалась обратно, то зачастую была снабжена дезинформационными материалами».
На Нюрнбергском процессе начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал-полковник Йодль с горечью признал. «. Мы страдали постоянной недооценкой русских: В нашей разведке были крупные провалы:». Еще определеннее по этому поводу высказался на следствии после Дня победы начальник штаба Верховного главнокомандования Вооруженными Силами фашистской Германии фельдмаршал Вильгельм Кейтель: «Мы ни разу не получали достоверных данных от своей разведки, которые оказали бы серьезное воздействие на развитие разрабатываемых военных операций: Военные сведения, добытые возвращавшимися из советского тыла нашими разведывательными группами, практически не представляли никакой ценности:».
Военная контрразведка в 1940-1941 гг.
А.А. Зданович
НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ
РЕФОРМЫ СО ЗНАКОМ ВОПРОСА
Военная контрразведка в 1940-1941 гг.
Противодействием угрозам, нейтрализацией их негативного воздействия на советские Вооруженные силы непрерывно занимались высшие политические и военные органы управления. Однако исполнительным аппаратом в данной сфере, безусловно, являлись структуры государственной безопасности, как бы они ни именовались и в какие бы ведомства ни входили на протяжении рассматриваемого периода.
Как известно, практически весь межвоенный период главным субъектом управления в сфере обеспечения безопасности армии и флота выступали органы ВЧК — НКВД, прежде всего, в лице Особого отдела. Отлаженная за многие годы служба военной контрразведки начала давать серьезные сбои в годы массовых репрессий (1937-1938 гг.), когда острие ее деятельности направлялось руководством страны на поиск «подрывных элементов», шпионов и вредителей в военной среде. В ходе массовых «чисток» контингента военнослужащих страдали и ни в чем не повинные люди. Под «каток» репрессий попали и многие сотрудники особых отделов. Были арестованы по ложным обвинениям, осуждены на длительные сроки или расстреляны все сменявшие друг друга с калейдоскопической быстротой начальники Особого отдела ГУГБ НКВД СССР и руководители его структурных подразделений. К концу 1938 года не остались на своих должностях и начальники особых отделов военных округов и флотов. После принятия постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» от ноября 1938 года [1] масштаб репрессивных действий резко сократился. Однако, что касается сотрудников органов госбезопасности, то количество арестованных за нарушения «социалистической законности» даже несколько увеличилось, не говоря уже об увольнениях со службы, снижении в должностях, отстранении от оперативной и следственной работы.
Начальником Особого отдела Орловского, а через несколько месяцев — Киевского военного округа, весной 1939 года был назначен выпускник Военно-инженерной академии РККА имени В.В. Куйбышева А.Н. Михеев. В августе 1940 года, т.е. спустя всего полтора года на основании постановления Политбюро ЦК ВКП(б) молодой чекист возглавил всю систему военной контрразведки страны. [4]
Большинство из новых назначенцев, безусловно, имели безукоризненные политические и военные характеристики — аттестации, но, к сожалению, не обладали даже минимально необходимым оперативным и следственным опытом для эффективного руководства большими коллективами в специальных службах, не владели методикой чекистской работы. Исходя из этого, отстаивать интересы военной контрразведки в общей системе принятия тех или иных решений на государственном уровне им было достаточно сложно. Особенно ощутимо это стало в ходе и после окончания Советско-финляндской войны, когда зримо проявилось желание военного командования взять под свое руководство всю систему особых отделов.
Согласно данному постановлению Особый отдел ГУГБ НКВД СССР ликвидировался, а вместо него создавались третьи управления НКО и НК ВМФ соответственно. В НКВД СССР остался лишь 3-й отдел, в задачу которого входило обеспечение безопасности всех войск наркомата, а также милиции и пожарной охраны.
Аппаратам третьих управлений и 3-го отдела поручалось решать следующие задачи:
1. Борьба с контрреволюцией, шпионажем, диверсией, вредительством и всякого рода антисоветскими проявлениями в Красной армии, ВМФ и войсках НКВД;
Спешка с реализацией принятого решения не могла не сказаться на качестве проводившихся мероприятий. Ведь постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома предусматривало ряд процедур, требовавших определенного времени. Так, предписывалось, к примеру, направить весь личный состав особых отделов на укомплектование третьих управлений и отделов, передать туда литерные, агентурные и следственные дела, перечислить за вновь образованными структурами всех арестованных лиц, организовать камеры предварительного заключения для содержания подследственных, определить порядок использования военной контрразведкой сил наружного наблюдения и специальных технических средств органов НКГБ, наладить оперативный учет и т.д. Отсюда понятно, что в пятидневный срок удалось провести реорганизацию лишь формально, многие вопросы пришлось решать в течение месяца и более. Изменения в структуре военной контрразведки привели к переназначению оперативных и руководящих сотрудников, переводу многих из них на другие должности либо даже в другие места прохождения службы, а это, в свою очередь, серьезно сказалось на темпах и эффективности работы.
До сегодняшнего дня историки не пришли к однозначному мнению относительно обоснованности и своевременности предпринятой реформы военной контрразведки. На мой взгляд, данное решение было проведено лишь под давлением руководства НКО СССР. После выявившихся в ходе Советско-финляндской войны недостатков в организации и боеготовности войск И.В. Сталин шел навстречу любой инициативе НКО по укреплению системы управления.
Таким образом, можно констатировать по крайней мере преждевременность реформы военной контрразведки, ее субъективистскую основу. И тем не менее реорганизация состоялась.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД 1937-1938. Документы. М., 2004. С. 607.
[3] Петров Н.В. Кто руководил органами госбезопасности. 1941—1954. Справочник. М., 2010. С. 659, 745.
[4] Лубянка. Сталин и НКВД — НКГБ — ГУКР «Смерш». 1939 — март 1946. Документы. М., 2006. С. 185.
[5] «Зимняя война»: работа над ошибками (апрель-май 1940 г.). Материалы комиссий Главного военного совета Красной армии по обобщению опыта финской кампании. М., 2004. С. 352.