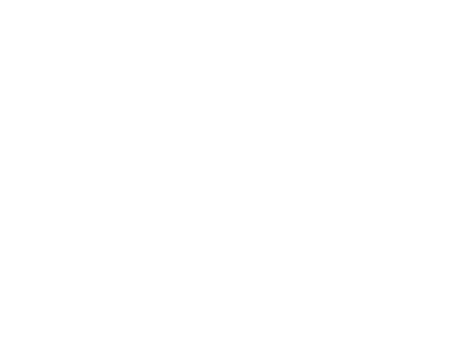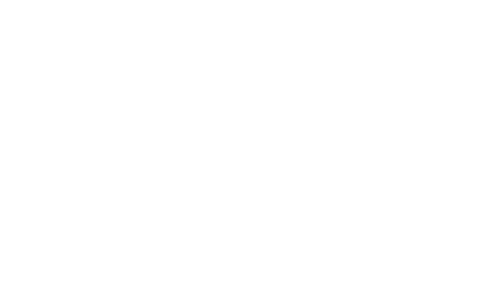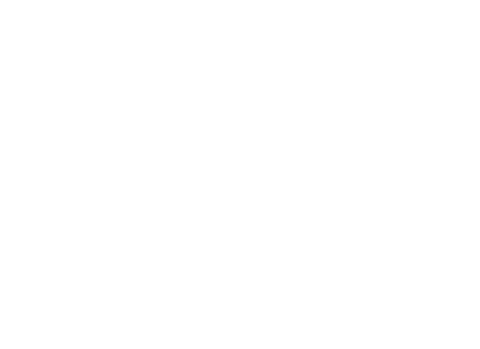Чем занимаются выпускники академии внешней разведки
Как стать разведчиком? Как попасть в СВР России?
Элитное военное подразделение – разведка. Люди годами учатся, чтобы освоить навыки хорошего разведчика. Большая ответственность, высокая физическая подготовка, умение мыслить и прогнозировать возможные события – это минимальные характеристики будущих солдат. Хороший разведчик должен уметь получать информацию о потенциальном враге и предлагать методы для решения задач во время военных операций.
Высокие требования подчеркивают, что попасть в СВР России «с улицы» не так уж и просто, как кажется. Работа в СВР – это не только ответственные внешние и внутренние миссии государства, но спектр различных запретов для служащих. Тем не менее, разведчики получают высокую зарплату, которая способна обеспечить их жизнь, и жизнь семьи. Поэтому у многих военнослужащих или желающих поступать в войска России, возникает вопрос: как попасть в разведку?
Сегодня мы подробно расскажем, как стать разведчиком, а так же поговорим про:
Разведка в России появилась в 1991 году. Штаб-квартира СВР находится в Сосенском поселении, московского округа. Руководит деятельностью Службы Внешней Разведки Президент Российской Федерации.
Служба в СВР, принцип ее работы
Внутренняя разведка России – одна из самых закрытых военных структур государства. Поэтому кандидаты в военные войска отбираются по строгим пунктам законодательства. Но не стоит забывать, что военные времена для России давно позади, и сейчас разведчики не бегают в поле с автоматами и аппаратами передач информации.
Их разделяют на две группы: войсковые разведчики и военные разведчики.
Войсковая разведка – служит на фронте, в активных местах боевых действий, передает информацию о противнике. Военная разведка – центральная организация при России, она собирает информацию дипломатического характера, проводит разведывательные операции внутри страны, а так же информирует государственный орган о положении различных государств.
Каждый желающий поступить в одно из двух подразделений проходит проверку:
Только после успешного собеседования, прохождения всех тестов и анализов, разговора с психологом и сдачи нормативов – разведчик принимается на службу.
Важно: обязательное условие будущего солдата – знание иностранного языка, иначе работа в разведывательных войсках не имеет смысла.
Жесткие требования? – да, но есть один приятный нюанс.
Попасть в СВР России – может каждый. Пресс-бюро СВР, во главе с начальником Сергеем Ивановым, оговаривает, что с 2019 года, любой желающих гражданин Российской Федерации после длительного просмотра и выполнения требований профессионального отбора – попадет в СВР.
Как попасть в СВР России, особенности службы кандидатов «с улицы»
Раз сказали, что попасть в разведку легко – значит легко? Вовсе нет.
Российская Федерация занимает второе место в рейтинге ТОП-10 мощных и подготовленных военных стран. И если вы думаете, что в разведку России берут, кого попало, то это не так.
На официальном сайте СВР указывается, что на службу попадают только лучшие из лучших, но они могут быть простыми гражданами России и не иметь специального образования. Для таких случаев проводится ряд тестов и проверок. Первичная оценка кандидатов происходит по показателям: личных и деловых качеств, образованности и образованию, оценке возраста и здоровья.
Сотрудниками СВР могут стать граждане имеющие:
Кто не может работать на СВР:
Более детально требования к будущим разведчикам прописаны на официальном сайте СВР.
Как поступить на службу?
Первая задача разведчика – обеспечить информацией и обезопасить свою страну. То есть, человек должен являться образованной личностью, разбираться в экономических, политических, научных, технических сферах, обладать совершенным владением иностранного языка. Быть в курсе всех событий внутри государства и следить за действиями внешних стран. Грубо говоря: быть в теме. Поэтому институт военной службы станет для будущего разведчика «очень кстати»
Но если вы имеете все вышеперечисленные факторы, а военного образование у вас нет – не беда. Многие представители гражданских профессий уже работают в СВР, ведь они прошли ряд тестирований, чтобы преступить к службе:
Кандидаты, которые собираются служить на оперативных должностях в СВР, должны быть готовы к прохождению учебной службы в академии внешней разведки. Сроки обучения от 1 года до 3 лет – это определит руководство СВР.
Для тех, кто не стремится работать в оперативной службе разведки, достаточно будет заполнить первичную анкету и начать проходить ряд тестирований. Их можно заполнить на сайте СВР России. Вопросы будут касаться вашей личной жизни, навыков и характера. Не забывайте, все данные, которые будут прописаны вами в анкете – могут стать известны «третьим лицам».
Академия внешней разведки
Молодые парни и девушки могут пройти полноценное и специализированное обучение в Академии внешней разведки или школе разведки России. Она осуществляет подготовку военных кадров оперативного состава разведки и других спецслужб. Находится в Московской области, Хлебниковском лесопарке.
Перед поступлением абитуриенты проходят: тестирование, сдают экзамены по знанию иностранных языков, профильных предметов. Руководство обращает внимание на образованность, на то, как будущий сотрудник одевается, ведет разговор, задает вопросы и располагает к себе людей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Я б в разведчики пошел…
Мысль рассказать, что разведка – это не есть круто, пришла ко мне во время учебы в Дипломатической академии МИД РФ. Тогда один из слушателей экономфака попросил меня рассказать о путях «проникновения» на службу в разведку. По его наивному желанию посвятить себя этому «увлекательному» делу я понял, что парня надо предостеречь, поскольку он ради этого готов был круто изменить свои жизненные планы – вплоть до перехода из Дипакадемии в Институт стран Азии и Африки при МГУ, который я закончил по программе второго высшего образования, о чем мой собеседник знал.
То, что в ИСАА готовят ГРУшников – старая байка, однако нет дыма без огня: многие ИСААшники становятся сотрудниками СВР. Также как и выпускники МГИМО, МГЛУ и прочих гражданских вузов с глубокой языковой подготовкой. Особенно ценятся те, кто добился успехов в изучении восточных языков. На выпускном экзамене по основному восточному языку непременно присутствует некое лицо в штатском, которого никто из студентов ранее никогда не видел. В какой-то момент этот некто встает и уходит, не говоря никому ни слова. По истечении некоторого времени самым способным выпускникам делают предложение вступить в разведывательное сообщество.
Кстати, в жизни я трижды пересекался с семьей разведчика-арабиста, генерал-лейтенанта Вадима Алексеевича Кирпиченко: с его внучкой Ксенией на лекциях в ИСАА, с его дочерью Екатериной в Российско-Арабском деловом совете и с его вдовой Валерией Николаевной в Институте востоковедения РАН, где мы несколько лет в одно время работали (не могу сказать вместе, поскольку работали мы в разных отделах). Так вот, его сын Сергей, отец Ксении, окончил МГИМО и стал «чистым» дипломатом (в настоящее время – посол в Египте), так же как и его внуки. А родители, как известно, желают своим детям только хорошего.
Не скрою, проблемы разведки интересовали меня еще до того, как я в 2003 г., выдержав конкурс в МИДе, оказался в Посольстве РФ в Йемене и стал выполнять задания резидента СВР. Кстати, если кто-нибудь из «чистых» дипломатов скажет, что он работал в загранучреждении и никак не сотрудничал со спецслужбами, можете рассмеяться ему в лицо. Так не бывает! Все МИДовцы так или иначе привлекаются резидентурами к сотрудничеству и используются резидентами в своих целях.
Еще на истфаке Тверского университета я прочитал книгу Виктора Суворова (Владимира Резуна) «Аквариум». В ней автором написано много всякой ерунды о жизни посольств, как я понял позднее, но в следующем можно не сомневаться: «Оба резидента (ГРУ и СВР. – П.Г.) не подчинены послу. Посол придуман для того, чтобы только маскировать существование двух ударных групп в составе советской (читай – российской. – П.Г.) колонии. Конечно, на людях оба резидента демонстрируют послу некоторое уважение, ибо оба резидента – дипломаты высокого ранга и своим непочтением к послу они бы выделялись на фоне других. На этом почтении и кончается вся зависимость от посла». Точнее было бы сказать, не посол придуман, а посольство. Работая в Йемене, я на собственном опыте убедился, что главное предназначение любого посольства – быть «крышей» для спецслужб, а уже потом вся эта мишура с дипломатическими приемами, теплыми рукопожатиями, витиеватыми фразами о дружбе и сотрудничестве и т.п.
Меня принял на дипломатическую работу посол Александр Сергеевич Засыпкин (в настоящее время – посол в Ливане), с которым я прошел собеседование еще во время стажировки в Центральном аппарате МИДа. По прибытии в Посольство я по видимой причине хотел дать ему прозвище «Грибоедов», но потом, чтобы не накликать беду, передумал: йеменцы, конечно, дружественный россиянам народ, но мало ли…
Однажды советник-посланник (второй человек в посольстве, по сути – заместитель посла) сказал мне, что МИДовцы – это всего-навсего почтальоны для дипломатической переписки. Развивая его мысль, приходишь к выводу, что МИД – это главпочтамт для официальной загранкорреспонденции, а загранучреждения в свою очередь – почтовые отделения на местах.
В работе ребят из «Конторы» тоже мало романтики. Точнее, романтический настрой быстро проходит. Это я испытал на себе, когда Засыпкин заподозрил меня в сотрудничестве с «ближними», то есть с внешней разведкой, и начал аккуратно отваживать меня от них. Спроси он меня открытым текстом о моих делах с резидентом, и тогда вопросы могли бы появиться уже к самому Засыпкину. Поскольку я продолжал оказывать резиденту всяческое содействие, в том числе общаясь с ЦРУшниками на тех дипломатических приемах, где меня не должно было быть (на предписанных дипломатических приемах можно общаться с кем угодно и сколько угодно), у меня скоро начались неприятности по работе. Дело в том, что МИДовцы все же хотят считать себя важнее любых разведчиков и очень ревнуют своих подчиненных, выполняющих указания кого-то еще, будь это даже в интересах государства.
Что касается общения с иностранцами, то сотрудникам референтуры и канцелярии это категорически запрещено, а остальные сотрудники посольств обязаны в письменной форме отчитываться перед офицером безопасности, то есть ФСБшником, с кем общались, когда, при каких обстоятельствах, чья была инициатива и о чем разговаривали. Кстати, дипломаты между собой общаются, как правило, на языке страны пребывания.
Я был удивлен, когда увидел, что начальник референтуры дублирует работу офицера безопасности и даже приглядывает за послом, пытаясь выведать у меня, с кем Засыпкин встречается.
Надо сказать, что «на вшивость» в посольстве проверяют всех и всегда, поэтому я не возмутился, когда по отношению ко мне это проделал и резидент. К этому надо относиться с пониманием, и лучше всего сделать вид, что ничего не заметил или не понял.
Для меня было неожиданностью, когда офицер безопасности разрешил мне сфотографировать Посольство и Сану с нашей водонапорной башни, самой высокой точки Посольства. Разумеется, я не стал упускать такую возможность, а в знак благодарности подарил офицеру безопасности несколько фотографий с панорамными видами города и Посольства. Кстати, фотографии были сделаны в обычном городском фотоателье на площади ат-Тахрир.
Как я «подружился» с резидентом? Последняя должность моего отца в армии – «начальник разведки зенитного ракетного полка». В детстве отец мне в шутку говорил: «Не забывай, ты – сын разведчика!» Но эти слова запали мне в душу, и когда резидент привлекал меня к сотрудничеству, его зерна упали на благодатную почву, и я ни минуты не колебался, не понимая, что это может усложнить мне жизнь. Еще мне понравилось, что резидент оценил мой страноведческий интерес и любовь к географическим картам: первым моим заданием было разыскать в книжных магазинах карту Саны и приобрести ее для резидентуры, что я выполнил в ближайший же выход в город. Позже мне стало ясно, что это был психологический прием резидента, что бы я вовлекся в сотрудничество. Кстати, я и для военного атташата выполнил одно картографическое задание, но в этом случае была личная просьба военного атташе к послу, который, конечно же, соблаговолил предоставить своего сотрудника в распоряжение «дальних», то есть военной разведки.
Как друг от друга отличаются «ближние» и «дальние»? Первые в большинстве своем – интеллигенты, с которыми приятно и интересно общаться. При этом все же не следует забывать, кто перед тобой. Вторые в большинстве своем ведут себя так, как будто им все чем-то обязаны, как будто остальные сотрудники посольства должны быть счастливы, что ГРУшники снисходят до общения с ними. Справедливости ради надо сказать, что сами военные атташе, с которыми мне пришлось общаться, не были людьми чванливыми. Так, один из них объяснил мне, кто такие региональные военные атташе: это лица, аккредитованные сразу в нескольких странах какого-либо региона.
Мне в голову пришло условно называть по принципу фонетической схожести СВРщиков сварщиками, а ГРУшников – грузчиками. Вот и работают они также: сварщики стараются, чтобы сварной шов получился аккуратно, на годы, для грузчиков же главное – груз не сломать или не разбить в данный момент времени, а дальнейшая судьба груза их совершенно не волнует.
Здесь не могу не рассказать об одном показательном случае. По заданию советника-посланника я перевел для Центрального аппарата МИДа Устав Санайской группы сотрудничества. А через некоторое время, просматривая информационные материалы Посольства, обнаружил свой перевод, включенный в справку одного из помощников военного атташе, как будто это он его выполнил. На свой вопрос, каким образом это могло произойти, я в военном атташате внятного ответа так и не получил. Кстати, по возвращении из командировки я как автор опубликовал названный перевод в своей книге «Йеменская Республика и ее города».
Впервые с военной разведкой «в живую» я столкнулся еще в армии в середине 90-х: в часть, где я служил, приехал «купец» из «Консерватории», как называют Военно-дипломатическую академию. Двухгодичников в «Консерваторию» не приглашают, а подписывать 5-летний контракт с Вооруженными Силами для призрачной возможности оказаться в рядах военной разведки, куда от рутины армейской службы рвутся все кадровые офицеры, я не стал. «Купец», как мне рассказывали отобранные кандидаты, советовал им делать упор на изучении истории и английского. Разумеется, экзаменов по истории и английскому в ВДА у них никто не принимал: там без экзаменов отсеивают.
Вернемся к загранучреждениям. Возникает вопрос: а зачем «ближние» привлекают «чистых» дипломатов к сотрудничеству? Во-первых, не хотят лишний раз светить своих людей: пусть ЦРУшники думают, что «чистый» – это СВРщик. Во-вторых, своих людей резиденту часто не хватает. Кроме того, именно на «чистого» может выйти инициативник, который впоследствии станет ценным агентом, что поможет резиденту продвинуться по карьерной лестнице.
ЦРУшники на дипломатических приемах первыми идут на контакт. Обаятельные улыбки, беззастенчивая лесть и т.п. должны настораживать. Видно было, что на ЦРУшников произвело впечатление, что я по первому образованию историк. Помимо прочих общих вопросов – что окончил, какими языками владею, в каких странах бывал, пью ли виски и т.п. – спросили и о моей специализации как историка. Признаться, общение с ЦРУшниками было небезынтересным. Они удивились, когда узнали, что бейсбол, их национальный вид спорта, – это примерно то же, что и русская лапта. Помню, как вытянулось лицо одного ЦРУшника, который сказал мне, что с трудом переносит жару выше 80 градусов, а я тут же перевел ему это значение из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия (примерно +27°С).
Исподволь ЦРУшники все же пытаются утвердить свое интеллектуальное превосходство. Мне удалось их обескуражить, когда мы заговорили о музыке, и я сказал им, перейдя с арабского: «By the way, my basic instrument is the accordion, but I play the piano better than the accordion because I like it very much». Никто из троих моих собеседников не смог мне на это чем-либо ответить.
Не только ЦРУшников, но и других иностранцев очень интересует один вопрос: сколько сотрудников работает в посольстве. После того, как мне этот вопрос задал один из послов в ожидании встречи с Засыпкиным, я стал загибать пальцы, делая вид, что считаю в уме, и так «считал» до тех пор, пока не пришел Засыпкин.
Американская тема и все что с ней связано – прерогатива «ближних», поэтому посла очень раздражало, когда я по неопытности касался этой темы на информационных читках, которые обязательно проводятся дипсоставом посольства в начале каждой недели.
Всем в Посольстве доставило радость, когда мне прислали перевод Конституции Йемена на русский язык: я его размножил и вручил «нужным» людям: послу, советнику-посланнику, резиденту и консулу. Разумеется, с авторитетным переводом М.А. Сапроновой работать было гораздо удобнее, чем с арабским текстом.
Не стану отрицать, что книгу «Восточный факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе» я написал под впечатлением все той же книги Резуна. В «Аквариуме», позволю себе напомнить, рассказывается о подготовке в Военно-дипломатической академии Советской Армии в 70-е годы. Моей же задачей было показать, как стала складываться система подготовки советских военных разведчиков, столь занимательно описанная Резуном. Для этого мне пришлось проявить некоторую настойчивость в общении с сотрудниками Российского государственного военного архива. Кстати, в РГВА еще далеко не все дела рассекречены, несмотря на то, что бОльшая их часть – до 1940 г.
К сожалению, из преподавателей и выпускников Востфака в живых к 2014 г. никого не осталось, а до меня никто эту тему не разрабатывал: существовали лишь отрывочные сведения в книгах, посвященных ВА им. Фрунзе в целом, и никаких интервью.
Мне Мария Водопьянова – внучка генерал-лейтенанта Кочеткова, одного из начальников ВДА, – во время работы над фильмом «Кочетков» из серии «Потомки» об учебе деда на Востфаке рассказала, что он учился три года. Больше она ничего вспомнить не смогла, хотя подробности семейной жизни и самого деда помнит очень хорошо.
СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ
История СВР началась около ста лет назад. В 20е годы прошлого века в ВЧК (нынешнее ФСБ) решили создать отдельную структуру для борьбы с врагами революции за пределами советского государства. Эту структуру назвали ИНО (Иностранным отделом) – первый орган внешней разведки в СССР.
Спустя несколько десятилетий после победы революции у ИНО появились новые задачи. Тут свою роль сыграла Вторая мировая война. Разведчики работали в тылу фашистов. Они собирали информацию и проводили диверсионные операции. Когда Германия была разгромлена, могла бы наступить передышка, но нет. Началась холодная война.
Даллес в своей книге «Искусство разведки» писал: «Все, что Абель делал, он совершал по убеждению, а не за деньги. Я бы хотел, чтобы мы имели трех-четырех таких человек, как Абель, в Москве».
Когда холодная война была проиграна, и СССР уже находился в процессе распада, в начале 90х, русская разведка пришла к новому этапу своего развития – имя которому СВР.
СВР нужна информация. А как ее добыть? Для этого разведка привлекает людей, которые владеют этой информацией. Говоря проще, вербуют. Мотивация у этих людей разная – от финансовых выгод до личной заинтересованности.
А как быть с другими странами? Ведь работать приходится не только внутри страны. Существует особо секретное подразделение «С». Это по сути нелегальная разведка. Разведчики для работы уезжают в другую страну по специальной легенде. И тут уже без иностранного языка никуда. Нужно знать хотя бы один. Но в совершенстве. Направлений и специализаций в разведке предостаточно. Для такой работы кадры готовят очень тщательно.
Единственное учебное заведение СВР – это Академия внешней разведки.
Поступить в Академию можно с 22 лет. У кандидата должно быть высшее гуманитарное или техническое образование, способности к иностранным языкам и неплохое здоровье. Точно не возьмут ярых экстремистов и фанатиков. Будет серьезный психологический отбор.
Внутри самого обучения существует ряд специализаций. На экономическом направлении готовят специалистов для выявления всех теневых схем в финансовом секторе. Причем разбираться придется не только в финансовых институтах нашей страны, но и познавать схемы работы зарубежных экономических моделей.
Политическая специализация углубляется в подготовку специалистов юридической направленности. Они должны быть готовы собирать информацию о деятельности международных общественных и политических структур. Нередко разведчики работают именно по линии Министерства Иностранных Дел. Настоящие дипломаты от разведки.
Научно-техническое направление готовит кадры для разработки и поиска всех инновационных технических наработок. Тут придется разбираться в физике и математике. Для любителей точных наук.
Аналитическое направление посвящено изучению всех процессов для анализа глобальных международных явлений.
Комплекс подготовки в Академии внешней разведки направлен на результат. Провала быть не должно. Цена ошибки в работе разведчика может стоить ему свободы или даже жизни. Хорошая мотивация для обучения.
В официальных источниках найти такую информацию не получится. Приблизительная зарплата, а точнее денежное довольствие рядового разведчика составляет около 60 тысяч рублей без дополнительных выплат. А они порой очень даже существенные. За стаж добавляют от 10 до 40 процентов. Больше половины за секретность. И до 100 процентов увеличивается оплата работы в тяжелых условиях. Плюс существуют надбавки на поддержание уровня владения иностранными языками. Кроме того, разведчики получают ведомственное медицинское обслуживание, питание, увеличенную пенсию, путевки в санатории и военную ипотеку.
Работа в СВР действительно имеет престиж среди других государственных служб. Быть может, не зря один из выпускников Академии внешней разведки добился неплохого карьерного роста и занимает на сегодняшний день большую должность – Президента Российской Федерации.
Погрузиться в историю
Книга «Гении разведки» того же автора Николая Долгополова
Узнать больше о наших реалиях
«Новая» о СВР
Пробовать
Академия внешней разведки. Критический взгляд
Самая полная и самая скандальная статья про Краснознамённый имени Андропова институт КГБ СССР (ныне, так называемая Академия внешней разведки СВР).
После публикации статьи против автора было возбуждено уголовное дело за разглашение гостайны, закрытое за отсутствием состава преступления.
Статью перепечатали на сайтах Компромат.ру и Агентура.ру.
Сергей ЖАКОВ, бывший кадровый сотрудник Особого резерва КГБ СССР
АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИИ: «кузница» новых кадров или отрыжка «совкового» прошлого?
Не будем искусственно подогревать интерес читателя дешевыми трюками и скажем сразу, что в этом материале, не претендующем на истину в последней инстанции, а опирающемся прежде всего на здравый смысл, проверенный дедуктивный метод, открытые материалы и свидетельства отдельных очевидцев (за неимением прямого доступа к секретным архивам СВР, обобщенные сведения из которых о российской разведке она предпочитает интерпретировать только сама через перья своих собственных официальных и, следовательно, по определению необъективных историографов), речь пойдет об отдельных мифах и реальностях одного из самых закрытых учебных заведений нашей страны, готовящего по сей день кадры для внешней разведки России и которому в октябре 2000 года накопительно исполняется 62 года, если просуммировать возраст всех его формальных предшественников.
Наследник Школы особого назначения (ШОН НКВД СССР, 1938 г.), Разведывательной школы (РАШ НКВД СССР, 1943 г.) и Высшей разведывательной школы (ВРШ МГБ СССР, 1948 г., а позднее Школы № 101 КГБ при Совмине СССР), реорганизованный в очередной раз уже в 1968 году Краснознаменный институт КГБ, сокращенно КИ («ка-и»), получивший в 1984 году имя умершего генсека ЦК КПСС Андропова, по-прежнему именовавшийся в народе «Лесной школой», готовил в советское время кадры для Первого главного управления (ПГУ) КГБ от периода брежневского застоя до начала ельцинской эпохи. В 1994 году, после краха горбачевской перестройки, роспуска КПСС, развала и КГБ, и СССР, институт был в последний раз преобразован в так называемую Академию внешней разведки (АВР), подведомственную пришедшей на смену ПГУ Службе внешней разведки России (СВР).
До изобретения спутников и самолетов-шпионов еще можно было пытаться что-то там спрятать от визуальной разведки. С развитием технических средств единственным способом эффективно сохранить секретность объектов стало только их камуфлирование, маскировка и легендирование, впрочем и при этом почти всегда существуют демаскирующие признаки. И хотя объекты закрытого учебного заведения советской разведки были сознательно разбросаны по различным уголкам Москвы и лесам Подмосковья, все они в реальности были скрупулезно нанесены даже на старые советские планы и атласы. Числились, правда, такие объекты под вымышленными наименованиями несуществующих санаториев, пионерских лагерей, баз отдыха, лабораторий и научно-исследовательских институтов, т.е. под легендированным «прикрытием» или, как в разведке сказали бы раньше, «крышей» (впрочем, теперь этим словом приличному человеку даже пользоваться неудобно, ибо оно уже приобрело несколько иное значение, прочно вошедшее в современный обиходный русский язык из бандитской фени, с легкой руки не только беспринципных бульварных журналистов, но и новых высших руководителей государства российского).
Нас, по обыкновению, власть считает безмозглыми идиотами, ну а мы делаем вид, что это именно так. Над объектами этого заведения регулярно, более двух десятков лет разруливают самолеты многих зарубежных авиакомпаний мира при взлетно-посадочном маневрировании у аэропорта «Шереметьево-2» (международный выходной коридор восточного направления на взлете через поселок Челобитьево BP 07D/25D SID, подходный коридор восточного направления на посадочной глиссаде через Челобитьево BP 07A,B/25A,B,C STAR), а простой шофер автомашины телекомпании РЕН-ТВ, далекий от разведки и ее проблем, который просто вывозил съемочную бригаду на натуру, когда мы готовили репортаж про это заведение, нам сразу признался, что о «Лесной школе» уже давно знает даже его семидесятилетняя теща, которую он в течение трех дет возит на дачу через Алтуфьево и далее по Челобитьевскому шоссе.
Так что всерьез упрекнуть нас в разглашении государственной тайны вряд ли кому-то удастся, ибо приводимые нами сведения задолго до этой публикации уже стали достоянием третьих лиц, включая спецслужбы противника, мы же их просто законными способами собрали воедино, обобщили, проанализировали, отфильтровали информационный шум, исправили наносные погрешности и синтезированный результат предложили вниманию широкой публики в удобоваримой, как мы надеемся, форме, пропустив через свое видение и прошлое знание предмета исследования.
Любому грибнику-москвичу, пробравшемуся через лес вдоль Осташковского и Челобитьевского шоссе, не взирая на устрашающие вывески об охранной санитарной зоне, к расположенному за глухим забором закрытому объекту, числившемуся пионерским лагерем, всегда было очевидно, что там расположено что-то совсем другое, ибо вотчину каких же таких пионеров, отгороженных от остального мира «кирпичами», шлагбаумами и колючей проволокой, станут и днем, и ночью обходить дозором вооруженные прапора как 33 богатыря из пушкинской «Сказки о царе Салтане»? И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о военной принадлежности этого «лагеря», понаблюдав, как к нему снуют черные машины с мигалками, а в автобусах возят в основном одинаково неброско и опрятно одетых, коротко подстриженных «пионеров» мужского пола, средний возраст которых составлял около 27-28 лет.
Вот тогда-то и понадобилось образовательное учреждение, которое могло хоть немного подучить грамоте и основам иностранных языков новых «бойцов невидимого фронта», поднатаскать этих совковых ублюдков в азах культуры. При этом штучный отбор и ранее практиковавшаяся индивидуальная подготовка, с точки зрения партии большевиков, разведке больше не подходили потому, что немедленно и единовременно требовалось заменить несколько сот пущенных в расход опытных оперработников центрального аппарата и зарубежных резидентур.
После своего основания в 1938 году ШОН быстренько наковала, наштамповала несколько выпусков по три десятка человек, призванных наспех заткнуть самые «зияющие высоты» разведдеятельности в горящей Испании, а затем в ближайшем тылу немецких войск и на фронтах Великой отечественной войны. Во время отступления и оборонительных боев Красной армии в первые годы войны о стратегических задачах почти не заботились. Упор тогда делался на диверсионные навыки и чисто тактическую военную разведку, а о стратегической политической разведке в дальнем зарубежье вообще мало кто думал. Сил и средств на это в то время явно не хватало, как бы нам теперь не приукрашивали реальную картину официальные летописцы. Отдельные же героические страницы чекистской истории, связанные с партизанским движением в глубоком тылу противника (отряд Медведева и др.), являются в действительности исключением, только подтверждающим общее правило. Кадры этого периода имели повышенную «текучесть», но это и немудрено: остатки наспех наструганных оперативников в военном горниле сгорали быстро, когда сталинская мясорубка сама не перемалывала новую поросль разведки с еще более зверской скоростью.
Следующее преобразование «кузницы» кадров советской разведки случилось уже в 1948 году и было связано с принципиальным изменением международной обстановки после окончания II мировой войны, с вступлением планеты в ядерную эру, началом «холодной» войны, нового раздела послевоенного мира на два жестко противоборствующих идеологических лагеря, с началом глобального противостояния двух систем и новой эпохи шпиономании.
«Лесная школа», обретя еще в 1948 году название Высшей, постепенно реально преобразовывалась в многопрофильный ведомственный ВУЗ. «Холодная» война шла ей только на пользу, а после смерти Сталина смену советских эпох с хрущевской на брежневскую школа прошла почти совершенно безболезненно. Внешняя разведка была объективно нужна, стала окончательно признанна, и ее больше почти не касались внутриполитические перетряски. В ее учебном заведении появлялись все новые факультеты с различной специализацией, что окончательно оформилось в 1968 году, когда получившая год назад орден Красного знамени «Лесная школа» стала, по настоянию Ю.В. Андропова, Краснознаменным институтом Комитета госбезопасности при Совете министров СССР. Вузовский статус ведомственного образовательного учреждения разведки льстил самолюбию Юрия Владимировича, поднимал его значимость как председателя Комитета госбезопасности, который в результате настойчивости его руководителя тоже со временем приобретет статут самостоятельного союзного госкомитета с правами министерства.
Одновременно, экономико-идеологическое соревнование западного общества потребления и советской модели «развитого» социализма с материальной точки зрения СССР проигрывал. Полки наших магазинов неуклонно пустели, несмотря на введение советского знака качества отечественные товары народ презирал, а на Западе росло число супер и гипермаркетов, качество и ассортимент ширпотреба, и советские люди, ставшие мещанами в эпоху брежневского застоя, начали «делать ноги» на Запад, пользуясь частичным открытием границ и расширением международных контактов.
Среди таких перебежчиков и невозвращенцев были и разведчики, которым способствовало то, что они чаще других советских людей находились на передовых рубежах этого соревнования, то есть за границей, и бежать им было намного легче, так как они сами принадлежали к карающим органам, знали что и как надо делать, чтобы не попасться. Когда же сбегал или предавал один разведчик, все, с кем он когда-то учился, работал и кого он знал, делались «невыездными». Их тоже надо было куда-то девать.
Кроме того, стабилизация мирового положения, отсутствие крупномасштабных войн, успехи в здравоохранении и социальная защищенность чрезвычайно замедлили естественную убыль кадров разведки, а руководящие должности становились редки. По этой причине объективно требовалось создать «отстойник», куда можно было бы выпихивать неперспективные, стареющие, но еще дееспособные кадры, бесполезно занимавшие дефицитные хлебные должности в центральном аппарате, что преграждало карьерный рост молодых и удачливых сынков высокопоставленных родителей, в том числе из аппарата ЦК КПСС и МИДа.
Наконец, в силу сексуальной и демографической иронии, а также в соответствии с требованиями советской кадровой политики, исходящей из того, что у советского разведчика должны быть семейные путы, чтобы он не заглядывался за границей на «шпионок с томным телом», у советских разведчиков в обязательном порядке бывали жены (помните, даже киношному легендарному Штирлицу привозили в фашистский Рейх из Москвы на показ жену, которую он почти и не видел-то, лишь чтобы напомнить о ее существовании?). От жен у разведчиков рождались не только сыновья (наследники и последователи), но и никчемные особи женского пола (дочери). И жен, и взрослых дочерей требовалось, в перерывах между загранкомандировками, пристраивать в какую-нибудь служебную «кормушку» в Москве, где они могли бы, не прикладывая больших усилий, получать вдвое больше чем «на гражданке» (если удавалось их аттестовать в воинское звание), в стороне от жесткой конкуренции, выдержать которую большинство провинциалок не могло. Куда-то нужно было ссылать и всех оперработников, которые провинились в быту и не соответствовали высоким морально-этическим требованиям к облику советского разведчика (пьяниц, бабников и разведенцев).
Однако, в советское время старались хотя бы формально оправдать статус ВУЗа, и в КИ, как в единственном профильном институте разведки, в условиях отсутствия государственного стандарта на обучение по специальности «Внешняя разведка», кипела инициативная работа по созданию бесценной теории советской разведдеятельности, которую, правда, никто на практике не использовал, настолько она была секретной. К тому же, со своей стороны разведка не могла поделиться с собственным учебным заведением последними достижениями и успехами, чтобы, не дай бог, не разгласить чего лишнего о действующих агентах и операциях. В результате этой взаимной перестраховки даже в секретные учебные пособия попадали примеры 50-летней давности, давно потерявшие всякую актуальность, но из которых в КИ дополнительно убирались все индивидуально-определенные признаки в целях конспирации. Практические примеры из жизни получались, как те слова из песни про «Знатоков»: если кто-то кое-где у нас порой… Отставными, проштрафившимися или провалившимися шпионами писались обезличенные и выхолощенные секретные учебники, над которыми смеялись и откровенно издевались все удачливые и более профессиональные практические работники (этих разведчиков-теоретиков прямо спрашивали: если вы такие умные, почему вы очутились в КИ?).
Важной и вполне полноценной составляющей учебного плана подготовки будущих разведчиков на трехгодичных факультетах были и общеобразовательные предметы с углубленным изучением международных проблем, которые, в отличие от специальных оперативных дисциплин, преподавались в КИ людьми, истинно знающими свое дело. Ведь большинству будущих оперработников-«подкрышников» предстояло заниматься шпионской деятельностью параллельно и под «крышей» легальных совзагранучреждений, выполняя для конспирации и полный объем работы по должностям прикрытия. Нужно было, так сказать, соответствовать, чтобы на равных общаться с будущими гражданскими коллегами, с так называемыми «чистыми» дипломатами, внешторговцами, международными журналистами, выпускниками МГИМО, академии внешней торговли, дипломатической академии, института стран Азии и Африки и других престижных политических и экономических ВУЗов, которые только того и ждали, чтобы подловить разведчиков (о принадлежности которых к «органам» все и всегда прекрасно знали) на просчетах и промахах их новой гражданской специальности. И вот бывшие чекисты-контрразведчики или выпускники отраслевых ВУЗов упорно и целенаправленно грызли в КИ гранит специальных наук, чтобы соответствовать в полной мере специальности «Международные отношения», которая значилась в каишном официальном дипломе, который, правда, так никто на руки и не получил.
Поэтому было совершенно оправданно и естественно, что после прихода выпускника из КИ в центральный аппарат разведки, ему сразу советовали забыть всю ерунду, которой его научили в институте за три года, и немедленно начинали переучивать в соответствии с реальными требованиями конкретного подразделения (помните, у Райкина: Забудьте дедукцию и индукцию, давайте продукцию!)
В «отстойнике» разведки ширилась и крепла также научно-исследовательская деятельность, писались совершенно секретные диссертации, даже название которых, в силу всем понятной специфики, составляло государственную тайну, а уж защита и подавно проходила в узком семейном кругу исключительно самих же разведчиков, допущенных к этой страшной тайне, вдалеке от конкуренции открытых научных коллективов и жестких требований ВАКа. После закрытой защиты, диссертации никто никогда больше не читал, в силу их высокой секретности и ограничения доступа к вершинам научной мысли разведки. Остаток своих дней они пылились в архивах спецчасти КИ, так что практического значения для разведки эта научная деятельность не имела. Однако она представляла прямую практическую ценность для отдельно взятого диссертанта. Ведь, кандидатская или докторская степень, как известно, в советское время не только тешила тщеславие какого-нибудь солдафона в полковничьих или генеральских погонах, но и давала вполне вещественные и ощутимые материальные выгоды: например, прибавку к зарплате, законное право на лишние квадратные метры при распределении советских государственных квартир и т.п.
Кроме того, все разведчики поголовно обязаны были состоять в рядах КПСС, так как разведка по определению была передовым вооруженным отрядом партии. Те, кто попадал в КИ комсомольцем, должны были вступить в партию за время обучения. Требования Устава КПСС, со времен подпольной партийной работы до революции и на захваченных врагом территориях, более не предусматривали возможности партийного учета под псевдонимами. Анкеты вступающего, заявления, характеристики и рекомендации вступающему трех членов КПСС оформлялись по истинным фамилиям. Секретари партбюро и парткомов, организующие эту работу имели обобщенные данные. Секретари и члены парткомов, проводившие прием в кандидаты и в члены КПСС, узнавали эти истинные данные в процессе приема каждого вступающего.
Да, не установленная вражеская подводная лодка Краснознаменный институт, как Останкинскую башню, в полях Подмосковья не таранила, и списать на досадную случайность глобальный провал в разведке тяжело. С точки зрения национальной безопасности страны предательство Пигузова привело к куда более катастрофическим последствиям в разведке. Широкомасштабная и систематическая расшифровка тысяч сотрудников самого секретного ведомства, прошедших через руки этого предателя, имевшего по должности доступ не только ко многим самым секретным обобщающим документам разведки, касающимся организации системы подготовки кадров для органов госбезопасности, но и к личным делам практически любого сотрудника тогдашней «Лесной» школы, содержащим полные и истинные установочные данные, поставила под сомнение само дальнейшее существование разведки в ее прежнем виде.
С партийными деятелями КПСС в КИ дело явно обстояло неладно. Катастрофический кадровый провал после предательства Пигузова был усугублен в 1990-91 годах после перехода на сторону противника майора ПГУ Михаила Буткова (школьная фамилия «Батов»), находившегося в долгосрочной загранкомандировке в резидентуре КГБ СССР в Норвегии под журналистским прикрытием. Будучи в течение 3 лет секретарем партбюро одного из курсов на основном факультете в КИ, Бутков по партийной должности также знал полные установочные данные (он лично готовил и проверял партийные анкеты и характеристики), а также языковую специализацию и закрепление по распределению всех вступающих в члены КПСС на его курсе. Кроме того, он имел возможность собрать практически исчерпывающие сведения о личных качествах всех однокурсников по КИ, позволяющих составить их психологические и профессиональные портреты. После опубликования его книги «КГБ в Норвегии» из этой страны было выслано несколько десятков сотрудников совзагранучреждений, практически все норвежское направление в ПГУ стало «невыездным» в страны НАТО. Последствия этого предательства на норвежском направлении ощущаются по сей день. Бутков впоследствии попросил политического убежища в Великобритании, получил британское гражданство и воинскую пенсию, организовал частную фирму в Женеве для предоставления услуг «новым» русским по организации обучения, лечения и банковского обслуживания в Швейцарии, «кинул» своих клиентов на 3 миллиона фунтов стерлингов, был заочно осужден уже британским судом и исчез.
Были до и после этого еще десятки предателей, включая самых высокопоставленных руководителей резидентур КГБ за рубежом. По-прежнему раздаются голоса (в частности, бывшего резидента КГБ в Канаде Медниса, а также бывшего сотрудника вашингтонской резидентуры КГБ Александра Соколова), что генерал Калугин был «кротом», и именно по его протекции Пигузов, досрочно отозванный за «аморалку» из загранкомандировки, был переведен в КИ и назначен на исключительно высокую партийную должность, открывающую заоблачные перспективы в сборе точных данных о кадровом составе разведки. А уж одного только «архивиста» Митрохина (как и Пигузов, предатель Митрохин был закономерным продуктом «отстойников» разведки, которая сама толкала на путь измены тщеславных, морально и профессионально неудовлетворенных людей, выброшенных на обочину службы кадровиками и начальством) хватило бы в нормальном государстве для принятия болезненного, но неизбежного решения об расформировании всей разведслужбы страны в связи с полной расшифровкой ее оперсостава и агентуры. Но наша разведка и в нашем государстве предпочла разоблачение и Пигузова, и Буткова, и десятков других предателей как бы не заметить.
Более того, в СВР до сих пор делают вид, что ничего серьезного не произошло. Дислокация расшифрованных объектов осталась прежней, старые расшифрованные учебники по-прежнему считаются совершенно секретными, новые и ничего не подозревающие слушатели продолжают безмятежно проживать в тех же расшифрованных общежитиях, без соблюдения элементарных мер безопасности собираться для посадки в те же служебные автобусы в тех же местах в городе Москве, где их явно или скрытно может сфотографировать агентура любой спецслужбы противника. И при том, руководители разведки и ее учебного заведения по-прежнему считают секретным даже сам факт месторасположения их расшифрованных штаб-квартир.
При этом на наше заявление в отношении неопровержимых и документально установленных судом и следствием фактов разглашения секретных сведений начальником управления кадров СВР Лыжиным, заместителем директора СВР Новиковым, начальником юридической службы СВР Канторовым и другими должностными лицами, Главная военная прокуратура ответила, что не усматривает в этих деяниях состава преступления. А прямое и открытое цитирование судьей Мосгорсуда Емышевой в публично оглашаемом решении совершенно секретных нормативных документов КИ и АВР, а также разглашение факта принадлежности конкретного лица к кадровому составу СВР, без санкции директора СВР и без обязательного письменного согласия самого лица (что запрещено ст. 18 закона «О внешней разведке»), начальник управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений органами прокуратуры тоже разглашением гостайны не счел.
Но вернемся, однако, к истории разведки и ее учебного заведения. В период 1991-92 годов, после распада СССР, расформирования КГБ и массовых предательств в ПГУ, из разведки ушло половина самого инициативного, дееспособного и предусмотрительного оперсостава (начиная, с нашего нынешнего президента, который по возвращении из загранкомандировки сразу перебрался в Питер на куда более «хлебную» работу в мэрию под крыло Собчака). Ведь не секрет, что в советское время ПГУ было само по себе не столько элитным местом работы, сколько «кормушкой», откуда люди легко ездили на заработки за границу, получая привилегированное положение перед остальными советскими гражданами, при котором не за разведчиками следил КГБ, а они сами, будучи сотрудниками резидентур КГБ, подсматривали и подслушивали за тем, что говорится и делается в колониях совзагранучреждений, да к тому же имели дополнительную валюту «на оперативные расходы» и могли свободно общаться с иностранцами без риска быть отозванным в Союз досрочно.
После символического падения Берлинской стены и открытия советских границ для широких международных обменов основа такого особого положения разведчиков была окончательно подорвана. Свободный рынок и крах государственного финансирования силовых структур доделали дело уничтожения советской разведки. Во вновь созданной на руинах ПГУ Службе внешней разведки остались только идеалисты-фанатики, готовые на лишенное здравого смысла самопожертвование ради режима, который собственными руками их уничтожал, или полные бездари, которые практически не могли бы устроиться в новых условиях свободной конкуренции на рынке труда на гражданке.
В этом процессе значительную роль сыграл именно затхлый сталинский дух подозрительности и закрытости, который по привычке витал в коридорах «Лесной школы» у подмосковного поселка Челобитьево. Молчаливо надуваясь от комплекса странного, ни на чем более не основанного превосходства, внутреннего сознания собственной мнимой секретности и непонятной значительности, АВР на стыке эпох реально не использовала уникального шанса стать открытым ВУЗом, в отличие, например, от того же МГИМО, также в советское время бывшего абсолютно закрытым, практически секретным ведомственным институтом, но сумевшего ярко вписаться в новые условия, не только укрепив свой авторитет и престиж, но и увеличив его за счет организации совместных учебных программ с ведущими зарубежными университетами и высшими школами. АВР даже не смогла получить хотя бы минимальные дивиденды от своего героического прошлого, интерес к которому присутствовал одно время. Как комплексующий подросток в период полового созревания, стыдящийся своего прыщавого лица, АВР продолжала прятаться в подмосковных лесах, в результате чего окончательно захирела и скатилась до роли деревенских курсов повышения квалификации оперсостава не престижного и не денежного ведомства. Гадкий утенок не стал прекрасным лебедем, а превратился в убогого, чванливого и противного индюка.
Ну а нынешние руководители СВР и АВР, не осознавая и не стесняясь своего скудоумия, продолжают, как в грозные 30-е годы, нагнетать обстановку всеобщей секретности, охоты на врагов народа и порождать мифы о несуществующих достижениях этого заведения, мороча невинным российским подросткам голову россказнями о «кузнице кадров, готовящей разведчиков 21-го века». «Кузница» эта, однако, даже не удосужилась получить надлежащей и обязательной лицензии на законное ведение образовательной деятельности, не прошла государственную аккредитацию в Минобразования России и, следовательно, даже не имеет формального права ни обучать чему бы то ни было, ни выдавать государственные документы об образовании.
А то, от нечего делать, вдруг примутся чиновники из «кузницы кадров» разведки засекречивать дипломы слушателей КИ пятнадцатилетней давности, еще 10 лет назад расшифрованных перед противником однокурсников предателя Буткова, принятых в компартию СССР предателем Пигузовым, и все это якобы из-за опасения, что из этих якобы секретных дипломов может быть еще выявлена принадлежность кого-то к кадровому составу советской разведки, которая благополучно почила в бозе после неудавшегося путча 1991 года и развала СССР. А что там выявлять-то, если все и так известно противнику? В этой борьбе за свою секретность с враждебным демократическим окружением, представители АВР не только уже нарушили все мыслимые и немыслимые законы, но и абсурдно дошли до самообвинений в совершении уголовных преступлений и признались даже в суде, что де и образования-то КИ никогда по-настоящему высшего не давал, и документы-то оформлял поддельные и незаконные. И такие люди хотят, чтобы младое племя России загорелось желанием поступить в подобную альма-матер?
Нет, не извлекла разведка надлежащих уроков из своих провалов и собственной истории, явно ждет еще своего часа подробное описание самого крупного и масштабного предательства в истории «Лесной школы», деталей спецоперации контрразведчиков-чекистов по выявлению и разоблачению Пигузова. Не стоит чекистам Патрушева больше скрывать от мира своих настоящих подвигов и реальных успехов. Пора раскрывать архивы для настоящих, серьезных исследователей, способных представить на суд общественности истинное лицо супер-крота, подлинный и правдивый анализ причин, приведших его к измене, объективную и независимую оценку реально нанесенного им ущерба. Хотелось бы поподробнее расспросить Крючкова, Шебаршина, Орлова и других еще здравствующих генералов от разведки, под чьим руководством долгие годы работал этот предатель.
Так что она такое, эта «Лесная школа», так называемая, Академия внешней разведки? «Кузница кадров 21-го века» или все же старая совковая кадровая помойка, отрыжка сталинской эпохи?